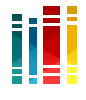Исследовательская краеведческая работа Жигаловской МЦБ История Жигаловского района в говорах, наречии местного населения
Исследовательская краеведческая работа Жигаловской МЦБ
История Жигаловского района в говорах, наречии местного населения
2016-2017гг.
Даная работа составлена из воспоминаний наших земляков – старожилов. Через эти воспоминания мы узнаём о прошедших годах района прошлого столетия и вспоминаем местный диалект.
Наш великий русский язык, который соединяет в себе красоты и достоинства всех известных мировых языков, переживает трудное время. Ведь язык – это народ. Народы слабеют именно с ослаблением языков. Исчез язык – исчез народ. История знает много таких примеров. Сегодня, как никогда, наши недруги стремятся покорить Россию с помощью неродных слов, засилья иностранных слов. Пышным цветом расцветает блатная, лагерная лексика, выхваченная из нэповских времен, а так же мат. Как грибы после дождя процветают слова – паразиты. Слово превращается в опасную, агрессивную силу, которая меняет сознание людей.
Давно замечено, что речь пожилых людей с Лены – реки, особенно жителей деревни, самобытна. Они активно употребляют диалектные слова, пословицы и поговорки. И эта старинная лексика поразительно точна. Яркая и содержательная, она живо характеризует прошлое время. В связи с исчезновением сёл района, стала теряться и исчезать драгоценная россыпь старых слов, а вместе с этим – история этих сёл. Здесь поместилась энциклопедия народной жизни из уст самого народа.
Приленцы, илгинцы не могут не поразить человека со стороны своим говором. С первого знакомства слышишь необычное сочетание внутренней свободы, чувства собственного достоинства, простодушия, сдержанности, душевной широты и щедрости. Рассказы неграмотных простых людей, обладающих феноменальной памятью, глубоким и острым умом, действуют на нас гипнотически. Эти нехитрые строки о судьбе сибиряков, наших жигаловцев, истории нашего приленского края. Здесь вы встретите тоску по былой общинной жизни, и в к военно – послевоенной тяжкой поре – пусть и временами бедной, но справедливой, дружной, в обрядах и обычаях красивой среди полноносного природного окружения. Немало в наших текстах и суеверия и языческих текстов, как дань былому мировоззрению, из которого слова не выкинешь. Правдивые рассказы наших старожилов и о раскулачивании, и о репрессиях, и о войне, через которые прошла жизнь каждой семьи Жигаловского района. Эти простые по форме истории обжигающе достоверны, они – беспощадный портрет времени, «документ эпохи».
В данной работе воспоминания старожилов – земляков собраны по темам: «Раскулачивание, коллективизация», «Обряды. Традиции. Быт», «Что едали наши деды», «События, связанные с суеверием», «Трудные годы в тылу», «Охота, звероловство, рыбалка», «История храмов района», «История сельского хозяйства», «Геграфические названия (топонимы) района».
По структуре воспоминаний: сначала материалы о респонденте: фамилия, имя, отчество, год рождения, место проживания. После воспоминания – в скобках - ключевое слово из сборника Афанасьевой – Медведевой Г. В.
« Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» т.1-16. (науч. Ред. Ф.П. Сороколетов) – Иркутск- 2007-2016.
Раскулачивание
Воспоминания Галины Константиновны Наумовой (1936г.р.) жительницы с. Чикан
«… А вот где-то тут еще паберега-то есть Чудинкина. Её отобрали, это бабушка рассказывала, её отобрали у единоличников, и раскулачили их. На ней колхоз убирал, потом частным передали, вот Арзамазовы на ней. Вот как только начинают убирать, так говорит, Авдотьи мокрые, ненастье! Ветер, дожж! Аж талины с корнем выворачиват. Там тальник, дак его с корнем. Никогда не уберут в колхозе, никогда без дождя, без бури не убирут! Вот он ушел, отдал его, у него отобрали его после революции колхозы. И че-то он сделал. Не убярут никогда! Все разнесет. Это моя бабушка по маме рассказывала...» (АВДОТЬИ МОКРЫЕ то же, что АВДОТЬИ – СЕНОГНОЙКИ)
Воспоминания Таисии Петровны Новопашиной(1925г.р.), жительницы с. Лукиново
«… Ноччу, ноччу приходили агитчики-то эти, хлеб выгребали. Ой! Чё творили! Даже в сельницах выгребали хлеб, муку высыпали. Вот чё! Как обобирали! Драли так драли! Все, кто уезжали, собирались и уезжали в други места. А которых доводили до тех пор, что голы оставалися… Кулачили, Господи, кулачили! А церковь-то нарушили-то, иконы нарушили. Ой!
Ну, там от така Марья Букарева была. Она агитчица была, агитировала все ходила. Ей там кулацки валенки дали, шубу, шапку. Она прямо что ты! Разоделася! Ну и кода сбросили эти колокола, а женски стоят и что ты!
- Чтоб тебе,- вот там всяко кляли.
Ой-ой-ой! Как ее ругали! Всяко-всяко обзывали. А она и говорит:- А если есть Бог…
Они: _ Чтоб тебя Бог наказал!
А она гыт: - А если Бог есть, пусть меня черви съедят.
И вот она как заболела и заболела. И положили её под короб, что по ей ползали черви да всяка Бухара. Под короб… Вот что шевяки-то возят в колхозах, вот под этот короб. И только мать ходила. Мужик даже не ходил, нихто… Мать одна токо к ей ходила. И так она под этим коробом, под шевяками-то померла…» (АГИТЧИЦА – женщина - агитатор)
Воспоминания Зинаиды Яковлевны Винокуровой (1919г.р.), жительницы с. Знаменка.
«… Здесь такой ад сочинили. Я вот помню, мой крестный учителем работал. Иннокентий Семеныч Кудинов. У него хлев был, теплый хлев, это редко же было - теплые хлевы. Там и колодец был. У него лошади там, коровы – все было. Ну, детей у него один сын был всего. И вот кода он зачуял, что арестовывать придут, все уже, он взял самого лучшего коня, запрег кошевку, положил там, что ему надо, и в седло. Все оставил. И потом он с семьей всё ж таки уехал где-то в Красноярск. Вот если он не уехат, его бы все!- расстреляли.
И вот там был у нас директор школы Рубцов Илья Николаевич, здо-о-ровый такой мужик. Яким Гурьич был… Ульянков, такой маланький, хроменький, математик, душа-человек. И вот их в январе забрали и расстреляли. А за что вот? Самые лучшие учителя, вот их и уничтожили. И в Боёво жили, они тоже раскулаченные. Стреловы там. Здесь была большая- пребольшая тюрьма в Знаменке. И вот остальны чё сделали? Мужики убежали, женски осталися. Они что сделали? Скота били, забивали, увозили прямо в тайгу, там выбрасывали… воронам, собакам.
А кому? Это же увозили все бесплатно, вытаскивали себе же все, съедали. Бедняки. Лентяи, оне же не работали, только ходили кулачили. Зачем ад - то такой сочинили? Нагрешили перед Богом, сильно нагрешили. Вот нас и наказывает Бог-то. Мы так и живем..». (Ад сочинять)
Воспоминания Алексея Николаевича Карих (1942г.р.) жителя с. Дальняя-Закора.
«… Отец мой добыл глухаря, по Аленканской паде ходил, туда, на Тилике, а в желудке вот такой самородочек нашёл; в Жигалово в скупку увез, сдал его. На эти деньги купил сепаратор и ружьё. Из-за этого сепаратора его и раскулачили. Говорит, приехали, все описали. Отец говорит, даже моего кобеля на цепочке в сельсовет увели. Я, говорит, ночью пришёл и отвязал его.
А отец его, дед мой, он в тайге был в то время, приехал, смотрит, ну, такое дело…всё, что осталось, говорит, загрузил на телегу и уехал с семьей на Тилик. Вот они на Усть-Илисово жили два года, скрывались. Говорит, мясо, рыбу там наловит, выйдет в деревню, поменяет на муку, на продукты и обратно туда. Вот они жили там крадче всей семьей. Их никто не продал. Народ-то был раньше хороший.
… Ходили там, на Чёрной, да добывали глухарей. Там жилы золоты. От Тыпты в тайгу ходили. Там Аленканская падь, это место называется Каторгой. Там алмазы добывали, там такой котлован выкопали, ну, может, шестьсот метров вниз, и то поглядишь, там такие сосны, и вниз на конус выкопан. Видимо, керберлитова трубка была. Ну, это было до революции. Родословная наша длинна… У моего деда фотокарточка есть такая, картонная фотокарточка, шестнадцатый год там, он там хорошо одет, сфотографирован, написано на обороте: «На память Зинаиде Яковлевне Карих»…»
(Аленканская падь. Название местности)
Воспоминания Арины Кононовны Чертовских(1917г.р.), жительницы д. Балыхта (1917г. р.)
Вот че творилось! Раскулачили и сослали. У нас, в Балыхте, много кулачили… Один вернулся домой. Все березу тряс. Говорит, нас привезли, бросили под сосну, под снег. Тайга! Мы там, гыт, огнишша запалили, землянки рыли. А весной – то стало, гыт, таять все, ой, говорит издевалися! Говорит, сгибают две березы, привязывают к ноге к кажной и потом вот так его надвое – ребенка – раздирают. Матеря, отцы здесь стоят и глядят. Вот чё было! Вот согнут, за ноги привяжут две ноги – и распустят. Опустят березы – оне и разорвутся. Детей разрывали живых. Вот как издевалися!
А потом там болото недалёко было, в болото бросают прямо живьем ребенка. Вот такие звери были.
Семьи – то раньше больши были, невестки понедельно работали. Четыре невестки были, все балыхтински, все четыре снохи… Они вперемен жили. Но кто там стряпает, кто за скотом, кто молотить. Мама у нас стряпала, мастерица была, она калачи заварные стряпала, и хлеб пекла хорошо, булки хорошие. И хворост у ней хороший был. Надо знать, скоко ичек набить, она умела. У ней хворост такой пышный был. Или вот свадьба ли чё ли, ее звали стряпать, готовить…
А другая невеска неумела ничё. Ни стряпать, ни варить. У ней булки- то, она вынесет из печки, она отдуется, корка – то, пустая булка. А свекор сидит за столом, она ложки хлёбальны наложила уже – хлебать суп (хлебали же из чашки все из одной). А он взял да и в хлеб затолкал, эти ложки. Она смотрит: - Я же ложки ложила. А он смеётся: - Вот так, моя невестушка, надо поучиться тебе. Сырая она, корка одна…
И крадчё ели. Свекра боялися, свекровку. Пойдут, муку сеяли же, вдвоём сеят и там: - Рыбку давай поедим тут, пока никто не видит.
Не давала свекрохка. У ей там все стояло, на вышке. Масла наготовит, и всё там. И сё пропадало, всё заплеснет, но ись не давала имям.
…Ну, вот муку сеют, и там оне поедят маленько, украдут. А там, может, шшотана, рыба эта, взять – то нельзя её. Но всё рамно, гыт, там поедим, и всё, а больше и не глядим. А настряпают, ну, чай попьют, настряпают оладьи ли, пирожки каки, вот это и поедят вместе…
Как умерла свекровка, потом разделились, дома построили и разбрелись, как олени по тайге… (Балыхта. Балыхтинские. О жителях с. Балыхта.)
Воспоминания Ксении Минеевны Аксаментовой (1907 г.р.), жительницы с. Пономарево.
Мно-о-о-гих кулачили здесь балахнински-то. А вот туда-ка были Ефимовские, жили в этим доме.
Серафимовские, рядом у нас тута-ка, тоже их раскулачили. Выгнали их. А Глазовский был, он заехал в эту избу, бедняк, а оне в ихню избу. А дедушка – то Констинтин жил на этой, у Романа Павловича на избе, на крыше спасался. Но как –то не посадили его… У нас всё, у меня дядя был, в Якутским потом жил, Николай Артемьевич, всё говорел:
-Меня бы…счас надо было кулачить, а не тогда, когда за самодельные штаны кулачили. Чё у меня было-то? Никого! А раскулачили!
Ну, сбежал, хоть его не посадили. А вот Фаинин отец, вот, отца посадили, восемнадцать лет не было. Иван Гаврилович – то. Шестеро детей было, их раскулачили. И вот она, эта бабушка, всяко – разно. Она всё смеялася.
-Какой – то, - говорит,- там отобрал, всё уж собрали, какие ешшо у нас зерькала снял и идет,- говорит,- в него так и смотрится.
А со стороны – то люди видят всё равно. Зерькало и то отобрали! А тут кто-то увёз у Лаврентия из них колоду. Колода, говорит во дворе стояла, ну, чё?
Иннокентий Лаврентьевич Толмачёв. Его раскулачили, оне уж жили это, всё собрали, всё это, утварь всяку – разну, вот это продукты да коров и всё. А Михайло – то,он потом председателем был. А сначала одним понятым каким-то всё, а потом председателем. А потом его с председательства – то убрали. Он уже в дорогу стал ходить, работать.
(Балахнинские. О жителях с. Балахня)
Коллективизация
Воспоминания Клары Михайловны Чертовских(1932г.р.), жительницы д. Чикан
«…На Кочёве была коммуна. Кочёв - речка, пять километров отсюдова. Ну, возле Тутуры же она, вот там была. Вот дедушка Савва-то, когда начали кулачить-то, он вступил в коммуну, увёз туда молотилку, жатку, два коня было у него. Ну и пожили, говорит, немного, потом, говорит, стали аркаться, делить. Все попереругалися, разбяжалися…
А он приехал сюда обратно-то: один конь и молотилка. А всё там расташшили. А потом здесь построил гумно, а молотилку в колхоз отдал… Савва Никитич Кулебякин, он чиканский. Дедушка мой. В четырёх газетах про него писали. В районке…» (АРКАТЬСЯ - ругаться, браниться, ссориться)
Воспоминания Марии Клевонитовны Рудых (1927г.р.), жительницы с. Чикан.
Тятю забрали, кулачили – то, - нас пятеро осталося, битых и грабленных. Я – то тода , чё мне, пять ли, шесть ли годов – то. В тридцать восьмом году его репрессировали, я всё плакала, я до двенадцати лет всё об ём плакала – так я его любили.
Мы осталися, те – то браття – на войну их потом взяли. А чё?! Как раз война, сразу – то не забрали: дети вредителя были. Видите, как было, как тяжело матери – то нашеей было жить! Битая была, христовая. Пойдут в военкомат, приедут: - Мы приехали.
- Дети вредителя! Оне приедут домой – плачут! Почему,- говорят,- нас так?! Мы так же работам, так же всё: и пахали, и сеяли, и всё помогали.
Потом старший – то брат выучился на тракториста. И уехал учиться – то на тракториста – то, а у матери печень болела сильно, он остался дома на один день – ить ему дали шесть месяцев отсидки, в тюрьме просидел, в жигаловской тюрьме. Вот видите как получилось. Потом он токо домой пришёл – и война – то эта, как раз война – и забрали старшего брата. Потом и третьего забрали, когда усильно немец – то попёр, дак всех забирали – все нужны стали, все: и вредители, и невредители.
Но и чё? Потом от старшего – то брата пришла бумага – убитый. Вот я всё плакала – плакала. Така семья – то дружная была, у нас никогда никто не ругалися. Бабенька хороша была. А она уехала, тятю – то забрали, как раз забирали, она в Якутском была, и потом бабенька – то едет, и как раз, говорит везли этих репрессированных – то, куда их плавили, на низ что ли, тятю – то. А это она не знат: их или не их ли, говрит, плавят, оне помахали. А чё?! Знакомых – то всё рамно – оне ж здешние жители – то, махали, говорит, двое рукам, говорит, аж обоим вот так машут! И как она приехала, так она плакала – она трое сутки проплакала. Звали её Евдокия Дмитревна, баба Дуся. По Лене уплавили. Она у сына в Якутским жила. Раскулачили. И за чё раскулачили?
А наших – то дедушку с баушкой раскулачили: два коня у них было. Свои кони, ведь своим же трудом – то! Вот теперь – то думают люди – то, что это свой труд – то! Но и раскулачили – выгнали из дому. Бабенька уехала к сыну, а дедушко с нами жил. А потом бабенька приехала, дедушка заболел и умер. Потом дедушку схоронили, бабенька осталась с нами жить.
Тятю – то за чё было садить? На одно одеяло купил матерьялу, и всё. Вот мыи жили биты и граблены, ходили без штанов. Коо там греха таить – то?! Платьишки мама сошьёт вот таки, седешь вот так да и сидишь. Ой! Худо, худо мы жили… Доброй жизни – то не видели.
Но чё?! Родился младший брат – то, уже без отца, отца в мае увезли, а брат – то родился тридцатого августа. Дров нету, зима, вот ельник был, с саночками пойдём, напилим.
Один раз – то, бабенька с нам жила, а мы уж до того устали ,чё, маленьки были, лягли… ель – то свалили, и на этой еле – то лягли и уснули. А бабенька – то потеряла нас, пришла. Ой! Дявчонки живы ли?! Я думала вас задавило! (Битый да грабленый)
Воспоминания Марины Иннокентьевны Власовой (1922 г.р.) жительницы с. Рудовка
В тридцать восьмом году его забрали, дядю – то моего, дядю Петю, в Магадан сослали: репрессии – то. Он счетоводом в кохозе работал. Пришли: - Собирайся.
Ну, чё?! Оделся и пошёл. И всё. А там били – то как их, ой-ой-ой! У меня подружка рядом с милицией жила, она рассказывала. А потом, кода погнали – то их, ну колонну, толпа собралась, женшин стоко, гыт, провожали, все кричат, плачут. А у тетки Мира шестимесячная была, она сухариков насушила и пошла провожать. А милиция – то, гыт, с обоих сторон. Милицию поставили, и бичом, гыт, наворачивают, народ – то бичом били. У меня, гыт Мира на руках, дак меня посюда – то гыт не били, видят ребёнок на руках, а по спине, гыт, два раза ошшучили этим бичом, гыт.
Так и погиб там потом. А у нас, у него четыре брата, они жили, своим трудом жили. Сами разрабатывали, никаких работников не было, ничё. Все делали сами. (Бич. Длинная плеть, кнут из мелко свитых ремней, верёвок)
Воспоминания Николая Ильича Пуляевского (1924г.р.) жителя с. Петрово
Я захватил, деревня Коноплянка была, там где – то домов двенадцать было (мне шесть лет было), и вот приехали комсомольцы выгребать хлеб. А хлеба – то не было. Какой хлеб?! Уже голод был, в тридцатых годах, голод. Но пришли, проверили засеки – то. Был двухэтажный амбар. Я вот до сих пор помню, комсомольцы эти кулачили. Но, а там у нас сосед был, вот эту машинку швейную переташшили к соседям, ну, чтоб её не забрали. А лошадей, скота – всё забрали же, коров забрали и нас из дома выгнали.
Вот у Федоры Федоровны дом – то был неважный, она там, через речку жила, но у них плоховато жили. Вот в наш дом – то перешла Федора Федоровна, с неделю пожила, а потом видит, кого там жить – то, ну и потом обратно в свой дом. А мы так осталися в этим доме. Тринадцать семей раскулачили. Нас выбросили на улицу. И тут больше-воденье в тридцать четвёртом же году – и деревню смыло, Коноплянку. Дома плыли с петухами, амбары – всё плыло. (Большеводенье. Большеводье. Наводнение.)
Воспоминания Таисии Петровны Новопашиной (1925г.р.) жительницы с. Лукиново.
Кулачили многих. Сестра в Фоминой жили, Василий Михайлович, вот его раскулачили. Перевалов. Пашни имел много, вроде хорошо жил. Показалось завидно кому – то, и кулачили, забирали всё.
Я помлю, мы – то в Христофоровой, а дядя Василий – то с тёткой Матрёной – то жили в Фоминой (шесть километров), вот к нам привозили оне коноплё, чёсаны куделечки были, в яшшике ляжали, вярхонки из сыромяти были, надымленные, накроённые, всё борловина. Вот к нам привязли, да вот в анбаре спасали ихно которо, когда их кулачили. А потом – то мы уж отдали им, прошла перебутырка – то эта, тогда – то отдали. Отцова сестра была, тётка Матрёна, хорошо оне жили. Вот раскулачили их. А за что, скажи? Своим трудом пашню разрабатывали, сеяли хлеб, - пожалуйста.
(Барловина. Берловина. Осенняя шкура дикой козы, из которой шили верхнюю тёплую одежду, обувь.)
Воспоминания Натальи Степановны Томшиной (1902г.р.), жительницы с. Коношаново
Коммуну – то сделали. Согнали. Сообча живите, грят. Мы чё?! Руки по животам сложили и сидим – посиживам. Но сиди не сиди, жор творить надо. Не знашь, дехка, смеяться, то ли плакать (Жор творить. Готовить пищу)
Обрядовые праздники. Традиции. Быт.
Воспоминания Галины Константиновны Наумовой (1936 г.р.), жительницы с. Чикан
Ефимья Ивановна Рудых, она была чиканская, она брала мужа в дом. Ей девятнадцать, ему двадцать девять, он келорскый. Сватат, значит, его отец, там где – то возле магазина.
-Давай мою бяри ты, ой, в дом ко мне!
У него дочери. Она всё рассказывала. Ну и в дом он будет брать. Пришли, говорит, сидят оне за столом. Я, говорит, на гобце на этом, в бабьем углу. А они, говорит, меня:
- Ну – ка,- тятя, – ну – ка иди, молодица, сюда!
Я, говорит, оттуда слезла – стыдно! Чё же?! В девятнадцать лет поставили её тут, к столу. Уж приглянулась она ему – не приглянулась, может, видывал когда? Ну и всё. И просватали.
А свадьба – то уж была – нет, не знаю. Ну и детей тоже: как год – так Фядот. Рябёнок, и рябёнок, и рябёнок! Я, говорит, жала – жала (серпом же вот так жали), пришла, говорит, и родила. Родила, говорит, и у меня ничё не шавелится, всё мне больно, говорит, всё. Ну, с работы, ни отдыха, ничего. А он, мужик – то, говорит… Третий - то день наступил, он говорит:
-Ну, мать, надо вставать, мяться! Жать же надо хлеб – то, убирать.
А я, говорит, говорю… Зло взяло, гыт, меня тако, я говорю:
-Чё мене мяться – то?! Я чё?! Охолошшена? Я, - говорит, - что, охолошшена, мне мяться – то?
Ну и чё, говорит, всё равно там неделя - то прошла – жать пошла. Вот так она придёт, и нам, говорю, а мы, в детстве это всё это она нам рассказывала.
(Бабий угол. Место в крестьянской избе за печью, отделенное занавеской или перегородкой)
Воспоминания Клавдии Петровны Толстоуховой (1916 г.р.), проживающей в д. Кочень
В Рожжаство – то наряжалися, бегали по домам. И ребятишки – славки, и бабы – славки. «Рожжаство твоё» пели. А когда прибегают, всегда уж наладят на стол. И конхеты, и орехи, и пряники. Чёт токо нету! Раньше же всё было в разну масть. Пряники – вот с одной стороны зелёно, а с другой - красно, с той – сине, тут чёрно. Вот таки были пряники. Нарисованы всё, выделаны, кони посажены, коровы, овцы, вот так, собаки. Вот они наставят на стол полны тарелки.
В Рожжаство прибегут рано утром и славят. Сначала бегут ребятишки. Ребятишки отславят, потом бабы – славки идут… Хозяин даёт имям всем вот это, чё на столе. В сумки (они с сумкам). В кажный дом бегают. Кто даст, кто не даст, кто бедно живёт, кто хорошо. У нас тятя дак всё время налаживал. Наладит на стол, оне пробегут.
Потом на солнце, как солнце всходить, идут ниши. Ниши. Вот оне с санками придут, на санки на эти и аржанины, и калачики мёрзлы, и буйки, и булочки – всё это хозяйка напекёт и имям даёт. Оне не славили. Только придут, поздороваются, чё есть.
-Пожалуйста, помогите, - скажут.
И имям давали. Таким ешшо больше давали, чем ребятишкам.
А потом опеть эти нишши уйдут, едет батюшка. У нас в Тутуре была церковь… Батюшка едет, ну, с этой, така плетёна корзина, пёстерь – то, вот ему уж кладут на стол пшаницу, тарелку пшаницы, тарелку овса, ячменя, какое зерно, рожь – это всё в тарелках. Яички накладут. А потом оне заходят в избу и машут кадилом. Вот так. По избе везде пройдут, по двору. И хозяин имям даёт зерно. Полны корзины насобирают. Но у них же хозяйство, там всё было, у батюшек – то. Я помню, ой, прибежим в школу – то, тут школа в Тутуре, а сюда – церковь. Вот оне там: бу-у-ум. Бу-у-ум! Благовест – то на всю Лену. А потом церковь – то уронили, когда и колокола – то, так глу-у-ухо стало.
(Бабы – славки. Женщины – участницы рождественских народных представлений)
Воспоминания Анны Тарасовны Бутаковой (1907г.р.), жительницы с. Воробьёво.
Здесь всяки ходили, через Балахню – то, просили, исть просили. Баушка наша всегда давала. Кто бы ни попросил. Окошечко откроет, перекрестится и подаст в окошко в створчато.
А как- то наши мужики же, оне на охоту уехали, после Покрова дня все же на охоту, бабы одне на деревне да ребятишки. Мы с баушкой баню топили, уже скутали её, заходит старичок, беглый, грязный весь, пооборванный, худой, а ноги-то все в кров разбиты, и вот так сял, а седой, сял коло бани, и видно, сил уж не было. А баушка – то говорит:
- Анна, сбегай в избу, направь ему узелочек.
Но чё? Сбегала в избу, чугунок картошек был, я ему картошку положила, творог наладила, рыба была, я рыбу положила, ельчикох, чай заварила, молока… Ешшо тятины стары ичишки нашла ему в ему в анбаре.
Мы и мыться – то не стали. А баня – то готова была. Он, видно, вымылся, заночевал там, на полке выспался, а утром ушёу. Утром – то пошли – а он уже утрепал. (Балахня)
Воспоминания Лукерьи Тихоновны Пономаревой (1912г.р.), жительницы с. Петрово
Мой старик полозья гнул, бальщик хороший был… Он – то умер. И все ходил… Дак трех увел, а меня не берет, все живу. Приходит и сидит, в куфайке, в кухне сидит, говорит:
-Ты знашь, как – говорит – холодно тама.
- Ты, - говорю, чё сам зашел в избу, а там на крыльце кто сидит? А он говорит: - Ефим Николаич. Мы, говрит, счас пойдем. И повернулся и пошёл. Я в окошко посмотрела: они пошли. И Ефим Николаич через месяц умер. Иннокентия вот так же. Приходит, сидит, мой на кухне, а мне не скажет, что пойдем, не говорит ничё, меня не зовет. А я говорю:
- Чё ты пришел опеть? – А там кто с тобой?
-А Кеша, - говорит.- Мы счас в баню пойдем. … И Кеша спёкся, ага. А потом дядю Ваню Барсукова также. Говорит: - Надо мне к Ивану сходить, позвать его, чтоб он мне полоз к саням сделал. И пошел от меня. А вот чтоб меня когда позвал, никогда не зовет. Ешшо жить буду долго. (Бальщик. Тот, кто на балах гнул санные полозья, ободья, колеса, дуги, уды и т. д.)
Воспоминания Анны Константиновны Рудых (1926 г.р.), жительницы д. Игжиновка
Раньше покос как праздник! Едешь с песням туда, с песням… А тут в Новопашинску – то речку ехали, всю дорогу… Там черёмухи – черёмухи! Ой-ё-ёй! Отстанем от коней далёко, наотламывашь веточек, догонишь, заскочишь на тялегу. Ну, дак вот. А мама – то рассказывала, здесь, в Рудовке, мама – то выросла в детях. Дак она рассказывала, праздник открывали, и там деляны были же тода, общего – то не было, и балаган у кажного, вот с гармошкой парни, девки наредятся – о-о-о! Дак ой-ё-ё! До утра. Балаган сделают коренённый, ночуют. Из Березины делали. На покосе же (Балаган коренённый, сделанный из покрытой корой древесины)
Воспоминания Владимира Никитича Аксаментова(1929г.р.), жителя д. Якимовка.
Раньше ведь рубили бани по - чёрному. Ну, вроде зимовейку срубят и печь из камня сложат, каменку. Раньше банны камни выбирали, чтоб поплоше были, крепки, калили в бочке на пробу и кипятком заваривали. Которы лопалис. А которы не лопались, вот из их и делали каменку. Её к стенке близко не ставили. Чтоб стена не сгорела. А меж стенкой и печкой шшель оставляли. Так вот старики говорили:
-Банник там живёт. Если будете друг друга в бане торопить, задавит банник – то.
Дед Афонасий рассказывау. Один мужик в бане мыуся, а второй:
-Ну, чё ты, там, скоро или нет?
Раза три спросиу. А потом из бани – то голос:
- Нет, я ешшо его обдираю токо!
Ну, он сразу это…побоялся, а потом открыу дверь – то, а у того мужика одне ноги торчат! Он его, банник – то, в эту шшель проташшиу. Сам-то он туда никак не залез бы. Выташшили его… (Банный камень. Речные камни, которые накладывали на печь – каменку с целью нагревания воды и усиления пара.)
Воспоминания Павла Иннокентьевича Рудых (1930 г.р.), жителя с. Рудовка
И вот в Новопашиной там дед этот жил, дак он дёкоть выгонял. Там бадья такая здоровая. Вот он где – то в сенокос – хорошо кора Березова идёт, отслаиватся, он надират этого беряста и потом туда всё, в котёл. И делат яму, баня называтся: сверху крышка, хорошо закрыто, упечатано всё. И всё. Ну, здесь снизу трубка идет прямо сюда вот. И вот её там, как жар накалится, ей деваться некуды – всё равно из её поплывёт, внутри – то жар, котёл весь вмазанный, а там печка, он шурует, пламя вокруг ходит. А деваться дыму некуды, вот он и выжимат его, этот дёкоть сюды, по трубке по этой вытекат.
Ну и смола – то вот так же идёт. Токо ложат туды сосну, смоле, корни, делат смолянуюяму, баню, и она идёт сюда же, так же трубка.
Колёса мазали раньше вот ей, смолой, телеги смолой мазали, лодки смолили. А дёкоть, он шёл лошадям. Ну и от мошки мазали. Дёкоть, ём обутки мазали, ичиги, чирки. Она чёрным таким делается, кожа – то, чёрным – чёрным. И мяхко…
Не в деревне гнали- то смолу, а там место было, Смоляное называлось. Там поля, поля вот Большой Луг, Копейкино вот. От Рудовки туды километров двенадцать, новерно. Сюда по речке же вот. Вот по нашей по речке, вниз, к Нижней Слободе. К ихным полям. Вот там называлась Смоляная, там смолу гнали. Её привозили сюда, в колхоз. И ешшо и до этого – то гнали там же, старики, единолично кода было. (Баня. Яма, в которой гонят деготь)
Воспоминания Марины Иннокентьевны Власовой (1922 г.р.), жительницы с. Рудовка
Мама жила в стряпках в Тутуре. У однех там, у Мишариной, у бараньки. Они и счас, однако, у них кто – то тут Мишарины остался. Она цыганка была. А он русский. Ну, они держали пашню. Всё держали. А мама моя была стряпка у них, стряпала, варила, всё там, она хорошо готовила. А она настряпат, а хозяйка – то, барананька – то:
- Настасся, - гыт, - ты наклади печенюшек по окнам.
Мама говорит, я накладу. А она берет сумку такую худенькую и пойдет, и кажно окошко открыват и милостыньку просит, а я, гыт, подаю ей. Вот придёт, гыт, потом из сумки высыпет, гыт, и так с аппетитом ест.
Хозяин – то ей не разрешал бегать по деремне – то, просить, он русский. А душа цыганская просила! Жили так богато, а ей охота! У ей эта цыганска кров, ей охота по деремне бежать, просить, а он её не отпускает… Ей вкуснее кажется…Ешшо, говорит, заставит переламывать кусочкам. Ой! Гыт, потом выналожит из сумки – и с таким аппетитом ест…
А оне барки гоняли по Лене, и мясо, и рыбу добывали, и всё- всё у них было. Она так от них и взамуж вышла потом, мама – то. (Баранька)
Воспоминания Марины Иннокентьевны Власовой (1922г.р.), жительницы с. Рудовка
Троицу берёзки завивали. Ага. Ой, лес, берёзку завивам! Там костёр разожгут, печёнок наложат, яичек наварят, всё это потом едят, угошшаются. Круг берёзки песни поют там, короводятся, вот так от было. Ну, чё, маленьки тоже бегали, встречали. В березник пойдём, где вот, там в Жигаловой, недалёко был березник. Потом все собирёмся, ребятишки – то. И костёр разожгём там круг берёзки. А тогда веселее было жить. У нас Алексей – то был гармонист, баянист, брат – то всю дорогу баянил. Дак у нас по улице было…лавочки. Метров по десять, наверно, три ли четыре лавки. Он играл, гармонист – тобыл. Все собиралися там – танцы, песни, игры. И в Троицу, и в Паску. В Паску бабкам играем, всяко. А народ весь собирался к нам. А потом, я помладше была кода, отыграт всё:
- Ну, бери, Марина, гармошку, неси домой.
Он пойдёт барышню провожать, а я гармошку домой. Хорошо жили, весело было. (Баянить. Играть на баяне.)
Воспоминания Михаила Нефедьевича Машукова (1936г.р.), жителя д. Кайдакан.
Лес на дом раньше старики знали, как выбрать. Низину не возьмешь. Лес заготавливать токо осенью надо. Вясной ни в коем случае, вясной он сок набирает, токо ошкурил – он сразу потрескался. А его вот шас аот, осенью заготавливают, он маленько поляжит, а потом шкуру снимают и штабелями складывают его. И он на зиму вот эту влагу всю вытяговат всю, и трещины не делаются. Вот так. Дома – то ранешные безысносно стояли. (Безысносно. Стоять, не поддаваясь разрушению, о доме, построенном прочно, добротно, на века)
Воспоминания Николая Ильича Пуляевского (1924г), жителя с. Петрово.
Мельница в Заплескино была, она безыстанову работала, и зимой и летом. Она была, знаете, Лукичева, Лукич Воробьев строил ее. Вот она под Вачегом вот здесь была, где скала, здесь дорога такая, токо на телеге проехать (Под Вачег звали). А там до сейчас ешшо эта протока – то. Вот Воробьева мельница была и там мельница, потом че-то снесло эту мельницу – то.
А Лукич, он богато жил, с иголки пошел торговать, с иголки пошел. И вот он вышел, плавал туды, карбаза, паузки. Он погркжал хлеб, с Илги возили, с Усть - Уды возили, погружали и туды поставлял, на золотые прииска в Бодайбо. Но такой хозяин – то, крепкий. Он сам себе выстроил дом хороший, и этот дом – то, в тридцать четвертом году его уплавили в Жигалово. Он счас стоит против церкви, этот дом – то, дом Лукича. Он Воробьев, ну, он неграмотный. А брат его был такой неприимчивый. А этот крепкий мужик был.
В протоке, остров там был. Ее потом снесло, вода большая была. В боку, на бочку водяная мельница. В Воробьевой была мельница, это я сам ездил туды молол, потом прудить ездил. Прудить? Ну, протока, чтоб вода – то наполнялась, камни туды, чтоб воды больше стало. Прудить – ну камни, на лодке плавили и забрасывали сюды. Я сам это делал. Все эти деревни то собирали. Воробьево, вот там речка туды, Малое Воробьево, вот эта скала, там лес пилили, плотбишше было, карбаза рубили, груза сплавляли.
И там, на протоке стояла мельница. Чтоб воды – то больше было, заход воды, собирали деревни: Коркино, Заплескино и Каренга, Петрово, Воробьева – вот эти деревни. А Каренги счас нету. Лодка была большая, но, примерно, мы вот сплавляли лодки – то, зерно сплавляли, большая была лодка. У Воробьевой была лодка. На лошадях привозили, со скалы брали камени - и в лодку. А потом переплавляли туды да забрасывали. Это я уже недоростком был, это где-то перед войной, летом. А летом – чтоб вода была. А мололи: как вода большая,это колесо крутится безыстанову, лопасти такие деревянные, шестерня там была, яшшички, два постола было, и мололи. Это крутит, и зерно – то сыпется, и мука сыпется.
(Безыстанову, или безыстанно или безытиху)
Воспоминание Аграфены Дмитриевны Каниной (1925г.р.), жительницы с. Петрово.
У мами моёй всех тоже было одиннадцать. Но оне пошто-то у ей не заживались на белом свете. А помрет который, и похоронить – то некогды было. А че же?! Она тёмно на работу уйдет, тёмно придет. А тут была, дома – то баушка( Кокорина Арина Васильевна, баушка моя). Мама домой придет, он уже под цветами лежит, ребёночек, на столе лежит. Мама чё? Ночь проголосит, поплачет безытишно. Утром баушка: - Да ты, моя, пойди на работу, я уж туту одна с нём.
Она одна возьмет коня, увезет и похоронит. Одна. Поедет на кладбишше, выкопат могилку да и похоронит этого ребеночка, обвоет его, отголосит как уж там. Пеленичного – то без народа хоронили. А поболе-то – уж так хоронили с народом.
Мама – то рассказывала: - Поедешь на работу – то (чё, в четыре часа ездили утра да всяко), но и,- говорит,- ребенок – титьку сосал, всё, а тут,- гыт,- приеду – он уже всё, белый свет потерял. И пошто не стояли дети? Токо я одна выстояла. (Безытишно. Горько, безутешно, во весь голос плакать, рыдать)
Воспоминания Галины Николаевны Рудых (1927г.р.) жительницы с. Рудовка.
Тятя мне подарил берловую шубу. Тятя сам коз диких добувал. А берловина – то – это шкура с дикой козы, осенняя шкура. Он её и выделывал сам. Она же знашь кака работная! Сначала квасят. Мука, дрожжи или апара. Эту всю шкуру намазывают и заворачивают её на квадрат, складывают. Она так ляжит, пока шерсть не пойдёт. Если шерсть пошла – всё! Её скоблят, потом в извёстку, вот в эту жижу, в извёстку – её вроде бы как стянет, закоробит. Потом её высушат, опеть по - новой мочат – и в корьё кладут, в дубильню. Листвянное корье дярут, парят его, и вот в это корье ложат, оно лежит там дней двенадцать, нако. Ну и оттуль вытаскывают, опеть сушат, потом её в мялку. Крутишь – крутишь. А потом дёгтем смазывают, чтоб она мягче была, чтоб скорее сделалась – то. Вот ей она пропитыватся хорошо. Вот её делают до такой, что она мягка. В бане тятя всё делал. (Берловина. Осенняя шкура дикой козы, из которой шили верхнюю тёплую одежду)
Воспоминания Елены Игнатьевны Пешковой (1927г.р.) жительницы с. Лукиново.
Коноплё у нас вырастало вот такой вышины. Вырвем его. Все мокры придём, обдерём руки, всё красно, аж кров летит – обдирало: она такое жёсткое было, коноплё это. Вырвем его всё, составим кучам, высохнет, семена эти высохнут, и молотим потом. А молотили – молотило. Цеп – палка такая длинная, и к этой палке ешшо коротенька вот така палка привязана, бильце – то, на кожанную вяревку – то. И молотишь вот его. Накладывашь вот так: одну сюда, один конец, другой сюда. Вот так, чтоб семя – то в кучке было одной. И вот обмолачивали его молотилом этим: бьёшь – бьёшь, бьёшь – бьёшь. До тех пор добьёшь, аж язык на плече, к вечеру – то.
И вот это, потом одну убирашь, другу накладывашь и опеть молотишь. Потом провеешь, и семя получалося. Потом делили семя на трудодни. Разделят. Потом сушим его. Высушим на печке. На печке высушим, провеем ешшо его не один раз. И потом толкут в ступе.
Истолкём его всё в муку, на столы высыплем, горячим кипятком потом его оболлём, всё это мнём, мнём и пирожки настряпам. Пирожки настряпам – и в корчагу. В корчагу кладём и ставим в печку в русску. Запяхам эти корчаги, две, который раз три запяхам, настряпам этих пирожкох.
И потом така колода была, в её ставилися шшоки. Вот эти шшоки ставят, это горяче вытаскывают – и в такие тряпки, холшовые тряпки вот таки вот сделают квадратные, и туда накладывают, и как пирожком тоже завёртывают вот так. Между этими шшокам в колоду кладут, между шшокам, и клинья забивают. И бежит масло в таз. Зеленое такое масло. А вкусное! И вот эти пироги – то и называлися ожимки. (Бильце)
Воспоминания Павла Иннокентьевича Рудых (1923г.р.) жителя с. Рудовка.
Печи – то всё раньше битые были, у всех глинобитки стояли. Я сам много перебил. У нас глина в однем месте есть хорошая. Клейкая, без песочка. Паклю добавляли, волос для крепости. Так его растягывашь по бокам – то. Для связки. Надо меньше чтоб лопалось. Опалубку нижнюю делаешь, свинку. Семья большая – побольше делают, там чтоб десять бутылок входило. Поменьше – пять – шесть. По семье делали.
Четыре человека били. Помочь собирали. Один – то сколь её проколотишь?! Надо четыре, каждый стоял по бортам. Киянка такая, она как молоток. Цело небольшое делали, чтоб чугун входил. Вядерный. А свинка из дерева делатся, из досок. Вот так вырезатся, и там скоко надо на борта, потом идёт вот так от. Сверьху это всё забиватся, со всех четырё х сторон, до вывода. Потом вставлятся соколок. Делатся опалубка вот так же, и этот тоже глинобитный. Труба – это вывод называтся. А соколок внизу идёт, где дым проходит. Он тоже такой, конусный, с пятлёй. Там вярёвку поддеть, привяжешь – подтаскывать – то. Бьют, потом подтянут, опеть бьют. И до самого верху. Трудоёмко.
А глину брали у старой кузницы, так место называлось.
Воспоминания Михаила Нефедьевича Машукова (1931г) жителя д. Кайдакан.
У нас – то битая печь - то. С ей же много делов было… Делатся опалубка, вот слушай, там нутренная опалубка. А вот это вот наружная опалубка. И глину. Не каку попало глину, а така вот глина, хорошая. Привозят вот эту глину и собирают помочь. Один – то не сможешь. Надо, чтоб глина не успевала засыхать, забыгать. Она должна спрессована быть. И надо за день печь сбить. Вот с утра начнут, и к вечеру уже вот этот вывод заделыватся. Вот этот вывод, он тоже глинобитный. Были киянки таки, вот таки высотой вот, киянки, кий, вот таки вот толшиной. Один конец завострённый так вот, маленько тупоносый, а один тупой, просто плоский такой. И вот этим молоточком и бьют. Подсыпают туда глины и бьют. До того, пока не спрессуется.
Аж потом она делается как цемент, бетон. Крепка сделается. Добавляют и бьют, добавляют и бьют.
А вот это свинка: вот сюда вставлялась такая чурка, вот её и называли свинка. И там вот опалубка – это вход в цело. А потом тут уже вырезают всё это сами. Вот это всё старина. И камелёк делали. (Битая печь. Глинобитная русская печь)
Воспоминания Серафимы Демьяновны Дроздовой (1927г.р.) жительницы с. Лукиново.
Жили в Федоровшшине, в Харлапанову пошли на вязанье. Далёко ходить на вязанье, но пошли. Я говорю: - Дак я кого возьму- то поись – то?! Ну, чё - нидь маленько кого - нидь возьму.
Но ладно, пойдём на ночь. С подружкой моёй, у ней там подружка в Харлапановой на вязанье была. Мы пошли на ночь. Но чё? Весь день курнались – курнались, вязали, подскрести всё надо. Пришли на стан, ужну надо варить. А кого?! Мне мама дала, завязала мучки там ложки две, три ли, может. Кого там?! Узолочек. И криночку битого молока, пропушшенного. А они – то чё?! Работали втроём, оне хорошо получили – то, больше же получали хлеба – то. А я кого?! Полина еще не работала, мама, я. Кого?! Я одна – то заработаю мало, а они втроём работали.
Ну и чё?! Они сварили кашу мушну, эти две сястры, густеньку, наелися. А я кого?! Это битое молоко, перегонку – то эту, обрат – то, я его похлябала, похлябала. Но чё? Спать легли. Оне чё?! Подружки эти уж спят, а у меня пошто – то слюна, слюна оттуль идёт – идёт, я глотаю – глотаю её. Этого битого молока нахлябалась, слюна – то вожжой идёт. Корову дяржали несчастну, дак всё равно отдай, масло отдай, всё отдай. Битое молоко одно.
И опеть назавтре давай курнаться. Да покурнайся – ка голодный! Да как дюжили ешшо?!
Нас, мама говорила, семеро ли чё ли было – то? А мы двои остались, а маленьки умирали. Раньше то скарлатина, да тиф, но всяки болячки – маленьки, гыт умирали один за однем. А мы двое зажились, не сдохли. (Битое молоко. Молоко, пропущенное через сепаратор)
Воспоминания Павла Иннокентьевича Рудых (1930г.р.) жителя с. Рудовка.
Под дом брали кондовый лес. Там болони – то вот сантиметр всего. Остальное деловое дерево, хорошее, смоллёвое. А с болота не берут. Никода. С бора берут или повыше. Оно там прямое, чистое, сучьев мало. Вот какой надо брать на дом. Его готовили зимой. Потом шкурили. Потом делали помочь, так называлось. Пять – шесть коней. И вывозили его в деревню и на то место, где должен стоять дом. Его ж потом тут шкурили и выкатывали на лёжки, чтоб кажно бревно отдельно. Ряд накатали, второй ряд, третий ряд, может четыре – пять рядов накатать. Вот он сохнет там, может год сохнуть, может – два. Кода он надумат рубить? А лес лежит. Он уже отделанный, высушенный, прямой.
Зимой возили. На санях же легче возить. И вот вёсну он пролежал, да уж зиму скоре надо строить. Если есть где жить у него. А вот кода уже делёжка начнётся (семьи – то – сыновья растут, женятся, а куда семье деваться?), вот отец начинат рубить сыновьям дом и отделят их. Даёт корову, телка, может, или лошадь, пашня у них своя там. Вот. Всё вот так делились. Дом рубили. (Болонь. Неотвердевший слой древесины под корой дерева)
Воспоминания Надежды Павловны Машуковой (1921 г.р.). жительницы с. Захарово
В Прокопьев день на покос уезжали. Не работали в этот день, а токо уезжали на отъезжие покосы. За двадцать километрох у нас были покосы. Уедут, паи там обмывали: гуляли, паи обмывали. А у нас покосы были тут вот, от деревни – то пятнадцать километрох, за Ивдой покосы были тут вот, на Болоте. Болото, вот так называлося. Болото. Вот там хорошие были покосы, заливные. Там много покосов – то было. Зимовья у каждого. На Болоте – то. А теперь уже всё, не косится. Теперь всё, деревни не стало, народ разъехался. Остались одне старики. Вот соберёмся, три пенсионерки, я грю, ну, вся деревня в куче. ( Болото. Название местности в районе)
Воспоминания Михаила Борисовича Винокурова (1930г.р.) жителя с. Лукиново.
Мы как – то бурундучили, и я брундука поймал где – то перед осенью. И кормили мы его, он в классе бегал всё. Ну и потом, осенью – то, чё – то не стал бегать – то. Выскочит и такой невесёлый – невесёлый. И нашёл местечко и уснул. Ну, думаю, он пропал. А потом Андрей Михеич:
- Нет,- говорит,- он, однако, живой,- говорит. Должен спать брундук.
И точно, в феврале он опеть забегал. Зёрнышек ему давали там. У Андрея Михеича орехи были. Орех, зёрнышек, они привыкают быстро. Мы на парте сидим, он по парте бегат. (Брундучить. Ловить бурундуков)
Воспоминание Марины Иннокентьевны Власовой (1933г.р.) жительницы с. Рудовка.
Рудовские – бурдушники, а Головновские – кто? Требушники. Мы всё спрашивали, почему. Она говорит:
- В Рудовке, - говорит,- бурдук варили, любили бурдук, а в Головновке – говорит, - любили требуху.
Вот когда убоина была, ну, кололи скот, дак и требуху варили. А Рудовские, оне бурдушники. Вот эта бабушка всё, бурдушница – то рудовская, дак она всё рассказывала, в Рудовке жила, там, а потом сюда переехала. (Бурдушники. Прозвище)
Воспоминания Николая Павловича Коношанова (1929г.р.) жителя с. Коношаново
Сани сами делали, полозья гнули, заготовляли из берёзы. Березу заготавляли. И станок специально был, там уж примерно штук десять – двенадцать. Туда их затолкают в этот станок, сырую березу, вытешут их, подтешут, ну, вроде полозы подготовят, распарят, потом в этим, на станке загибают, бало называли, бало гнуть полозы. Потом сколь там она загнёт если, сразу его обколачивают, чтоб не разогнулся, сколачивали, откидывают, другой.
Потом сушат. А после сушки уже обделывают настоящие полозья. Там уже какие, под кошёвку или куда ли сделают, или дровяные сани. Дровяные сани, это уже под отвод сани, а их и не окавывали полозья железом.
Весной берёзу заготавливали. Весной, зимой. (Дровяные сани. Зимняя деревянная повозка на двух полозьях)
Воспоминания Варвары Амосовны Дроздовой (1926г.р.), жительницы д. Байдоново
Егор Храбрый – ну, это хороший праздник. У нас на этот день умерла мама. В Егор Храбрый, так я слыхала, рассказывали в Федотовой тама – ка, в его нельзя работать. Для скота он очень хороший праздник, для скота надо уж берегчи. Один, грит мужчина собрался ехать в лес. Ну, ему ешшо говорели: - Не езди, сёдня Егор Храбрый, не езди. Праздник же.
- Но чё я? Праздник, съезжу, да и всё.
Ну и чё? Он поехал, у его коня – то лесиной убил. Убил, грит, коня лесиной. Сваливал лесину, она на коня упала. И приехал без коня. Пришёл из леса без коня. Сам – то пришёл, а коня – то нету. Вот что рассказали. Сколь ему говорели: Не езди, праздник сегодня. Вот так получилось, ага. (Егор Храбрый. В православном календаре: день памяти Георгия Победоносца)
Воспоминания Николая Павловича Коношанова (1930 г.р.), жителя с. Коношаново
Но телеги сами делали тоже. Ельчину выбирали такую, чтоб корень у неё был круглый, вроде крюка. Но там сколь? Крюк этот выдалбливают, но и оглобли из этого дерева получаются. Тоже вытясывают её, там уже долбят, настилают потом доски. Надо кажну телегу. Две оглобли. А там ось-то эта железна или деревянна, там уже делают, ось под колёса – то, кака уж попадёт там. И в этот посредине вытясывают на оглоблях. Выдалбливают два этих, но шканты, чтобы ось – то держалась. Наскрозь туда пропущают, и вот оне держут эту телегу, ось, и она катится. С обоих сторон.
(Ельчина. Еловое дерево, ель)
Воспоминания сестер Коношановых Ларисы Георгиевны (1932г.р.) и Александры Георгиевны (1930г.р.)
Первый раз «Дружба» появилась, у нас дед старенький был, побежал, дак они кого: - Вот етия лять – то, как она быстро пилит – то! Но дак или рукам пилили, или эта «Дружба» - чурочки летели. От как быстро пилит – то. Но потом чё, комбайны появилися. Ешшо лучше, нам хоть не жать, не вязать.
А у нас вот дедка матерился: «Етия лять». Только так. А вот у Шаманова, у которого баба – то блядовала, тот «ес твою мать». Больше никаким матом. (Етия лять. Ругательство)
Воспоминания Ларисы Георгиевны Коношановой (1930г.р.), жительницы с. Коношаново
Самы лучши дрова листвень. Листвень она жаркая. Она больше жару даёт и дольше горит. От неё больше жару, жару она даёт, и она горит дольше.
(Жаркий. Жарчее. Дающий при сгорании сильный жар, много тепла)
Воспоминания Марии Дмитриевны Дружининой (1926г.р.), жительницы с. Знаменка.
Вот родится ребёнок, ему сразу жвачку дают, хлеб нажуют и в марлю. А потом уж грудь. И хлеб жевали, и свекольный сок давали – чтоб не было грыжи.
И соску сами же делали. С коровьего соска выделывали. Раньше рог коровий выделают и наливают в него молоко. Ну и жвачку давали. В марлю или бинт широкий. Раньше марли – то всяки разны были. Нажуют аржану корочку или кусок хлеба с солью и дают ему. Он муслякат её. Кусочек сала на верёвочку или на тряпочку привязывали, ребёнку дадут, он сосёт. (Жвачка. Жванина, жёвка. Пережёванный хлеб, завёрнутый в марлю (тряпочку), который давали ребёнку вместо соски)
Воспоминания Александра Ивановича Винокурова (1931г.р.), жителя с. Дальняя – Закора
Вот как я стал жениться, я говорю ей:
– Чё, давай сойдёмся, жить будем.
Она ведь ходила к одной своей подруге, гадали, то ли выйти, то ли нет. Написали на листках: «выходи», «не выходи», от она жереби и вытянула «выходи».
-Чё, пришлось выйти. Вот уж скоро сорок будет в феврале, как живём. В две тысячи восьмом году будет сорок лет. Как два дурака сошлись и живут. Два Сани. Но. Дак я Александр и она Александра, два Сани. (Жеребий. Жребий)
Воспоминания Полины Демьяновны Жучевой (1928г.р.), жительницы д. Бутырино
У нас тятя помер в тридцать шестом году. А в войну мама осталась, нас семеро. А самый старший пятнадцать лет был, а самому меньшему год. А дети шли и шли, через два года и ребёнок, и ребёнок… Как говорится, через год Федот. Через два года все вот мы, нас семеро, мы все на два года друг дружки были старше или моложе. И трудно было. Если кака –то у кого –то, беда какая –то или чего –то не хватат… Вот капусты, это серую били, белую и серую, белую так ели, серую там щи варили. Хоть чего – нибудь она принесёт, детей даже нечем было кормить.
- На-а-а, отнеси хоть крошечку чего – нибудь.
Вот в Бутыриной у нас так было, народ был хороший. Счас разе это увидишь? Да подохни, валяйся на дороге, и плюнуть не захочут на тебя. Жизнь карявая кака – то пошла. А раньше за кажного человека тряслись, старались как – то его вытянуть, как –то его поддержать, жалели. У кого беда случится – все идут туды все, все помогают, он и душой и делом. И человеку легче, это, беду перенести. А счас нету. Охолодел весь народ, озверел. (Жизнь корявая. О жизни общества при отсутствии взаимопомощи)
Воспоминания Юрия Николаевича Шаманова (1938г.р.), жителя с. Коношаново
Матрасы были (это после войны), ну, выхлапывают, когда белют, вот на Пасху, перед Пасхой и осенью всегда белят. И моя хлопала матрасы – и раз! – один матрас распололся, и оттуль ленточкой, ленточка зашитых монет была. Много их там было.
И как было? Вот когда их стали раскулачивать, оне зажиточны были. И жили – то на правую копейку, сами работали как волы. Ну и бабушка её, вот Людмилина – то, видимо, иаленько соображала, ну чтоб не подарить, она вот взяла монеты золотые – и в матрас, что будут трясти – то матрасья – то. И вот монет десять, наверное, она зашила. И оне здесь жили, уж сколь лет – то прожили – даже не хватились. А Люда маленька была, чё – то кругло, ковырять – то стала да и выкоревала. А потом кто – то монеты – то выманил (Жить на правую копейку. Жить честно, своим трудом)
Воспоминания Александры Георгиевны Коношановой (1930г.р.), жительницы с. Коношаново
Маленьких ребятишек, вот их поили жолостью от налима. Но, от грыжи. Но там капельки надо всё равно: она же горькая же. Водой надо разводить.
(Жолость. Желчь)
Воспоминания Ларисы Георгиевны Коношановой (1932г.р.), жительницы с. Коношаново
На потягу поднять. Вот чересседельник называтся, один край подберут за оглоблю, делают петельку, одеют, а потом через вот это седёлко продерьгивают до второй оглобли и приподымают, чтоб хомут – то не болтался у ей сюда, а наравне был, чтоб ей плечам ташшить груз - то. В основном - то же хомут на спину к передним лопаткам. И тут и подымают на потягу. Вперёд хомут одеют, там сидёлко, потом хомут, там гужи потом, вот эти гужи, влаживают в супонь. Вот там внизу – то, за другой – то, называются у хомута – то клеши, там дырочка, верёвочка. И вот кода дугу – то вложишь, и потом эту супонь затяговашь, чтоб она не расходилася, вот тогда подымай на потягу, завожжай. Надо суметь.
Это у нас тётка в Иркутским жила (но это уж давно было, она уж давно умерла), но и захотела сюда приехать. А сюда ешшо площадки не было, самолёт не летал. Летал до Суровой, там была площадка. Оне до Суровой прилятели, их три женщины, им надо было всем в Коношанову. Но, а там это, Афанасий председателем колхоза, ешшо колхоз был, народу много было, работали. Но она чё, его знала. Она сразу пришла и говорит:
- Афанасий Иннокентьевич, в колхоз – гыт, - нас отвози. Он гыт:
- Я вас отвозить не буду, я – гыт, вам запрягу лошадку в сани и езжайте, до Коношаново доедете сами. Но, ехали ехали – раз! – лошадь –то распряглась. Но и чё? Вылезли из саней, ходят вокруг.
- Ну, чё, - гыт, - Анна Ивановна, ты,- гыт, больше в колхозе – то была. А она когда школу – то закончила, и с одной из Коношановой, девчонкой поплыли до Якутска в лодке, учиться, чтоб только в колхозе не работать. Но она же всё рано работу – то видела.
- Но чё,- гыт, давайте, уж чё, как уж сумею. Ну, вот она завожжала, сяли и поехали. И приехали.
Это,- гыт, - хорошо, что ты с нами была. Не было б тебя – нам, гыт, - лошадь в поводу. И вот оне приехали, она долго смеялася. Вот так и ездили. (Завожжать. Пристегнуть, привязать вожжи к удилам при запряжке лошади)
Воспоминания Ларисы Георгиевны Коношановой (1932г.р.), жительницы с. Коношаново
Раньше вот в Пасху стреляли. Ой, ой, ой, чё делали! Раньше вот, когда Иисус Христос спускается на землю, его встречали в двенадцать часов. Обязательно. А которые – то даже ешшо двенадцать не дождут. А счас – то даже и, ой, хоть бы один выстрел где бы был. Нет.
А в яичное заговенье – то целыми днями стреляли в яйца.
Вот Троица, гуляют, ну, берёзку наряжают, по деревне гуляют там, где на лужайку едут.
А яичное заговенье через неделю, оно яичное заговенье – вот варятяйцы и варят мушную кашу. Молока с мукой – это мушная каша называлась, обязательно. И у нас ешшо, я корову держала, каждое яичное заговенье сварю яйцы, сварю мушную кашу. Все варили.
А яйцы у нас туту у однех у бани на верёвочку привяжут, а от ворот стреляли в эти яйцы. Дак вся деревня, мужики в одном месте соберутся, стреляют. Но так – то не пили, как сейчас – то, ну там где – нибудь соберутся, погуляют, по стопке выпьют.
Дак в яйцы стреляли. Его на верёвочку подвешают. А один взял да догадался… взял, яичко –то проковырял, яичко –то высосал, а шкурка осталась. Заряд – то стрелит его, воздухом – то отбросит – попасти – то никак не может. А потом разоблачили, что оно пустое. Ну, счас и ни в Паску не стреляют, и ни в Троицу не стреляют.
Троица она это, идёт по Паске. Вот Паска была, нынче Паска в апреле, ранняя. И Троица по Паске. После Паски до Троицы сорок девять дён. Троица пятидесятница. На пятидесятый день. Вот так их считают праздники. Вот которые праздники в числе, они начинаются…ну, Новый год он сам Новый год. Рождество он всегда в числе, седьмого января. День любой, а из числа не выходит. Паска она всегда в воскресенье, а число всякое разное. И вот по Паске идёт Троица, после Троицы Яичное загование. Там Петров день, Прокофьев день – эти тоже в числе. День всякий разный, а они в числе. Вот так бывает. Все праздники. Масленицу – у нас раньше запрягали коней, ездили на конех. Коня, дугу нарядят, колокольчики. А счас – то, ой, даже и… Масленица и Масленица, ладно, даже и ничё не делают, не празднуют шибко. Я говорю, счас народу – то в деревне – то никого не осталось. (Яичное заговенье –праздник)
Воспоминания Варвары Дмитриевны Коношановой (1919г.р.), жительницы с. Коношаново
У мамы четыре дочери и три парня было. Парни не зажились, а четыре дочери – то зажились, и две – то сестры молодые умерли, в Усть – Куте жили, а мы вот остались. Стрёма да Ерёма.
У мамы две сестры и два брата, и то оне умерли, а мама осталась. Отец умер, и мать умерла – она девяти лет осталась от них. И девять лет жила одна, одна жила, всё делала сама: и корову доила, и свиней кормила, и огород садила. И вот эта тятина – то мать, ей шестнадцать лет было, а она за тятю – то, за отца – то и выдала, сосватали её. Девчонкой ещё шестнадцати лет. А когда одна – то осталася… Но пожилы – то приходили, советовали ей, как чё делать, как в огороде садить всё, от старых она научилась. У мамы была жизнь трудная… И взамуж сюда отдали за отца – то, он пьяница был, как жизь с пьяницей… (Зажиться. Жить долго)
Что едали наши деды
Воспоминания Серафимы Демьяновны Дроздовой (1927г.р.) жительницы с. Лукиново.
Жили в Федоровшшине, в Харлапанову пошли на вязанье. Далёко ходить на вязанье, но пошли. Я говорю: - Дак я кого возьму - то поись – то?! Ну, чё - нидь маленько кого - нидь возьму.
Но ладно, пойдём на ночь. С подружкой моёй, у ней там подружка в Харлапановой на вязанье была. Мы пошли на ночь. Но чё? Весь день курнались – курнались, вязали, подскрести всё надо. Пришли на стан, ужну надо варить. А кого?! Мне мама дала, завязала мучки там ложки две, три ли, может. Кого там?! Узолочек. И криночку битого молока, пропушшенного. А они – то чё?! Работали втроём, оне хорошо получили – то, больше же получали хлеба – то. А я кого?! Полина еще не работала, мама, я. Кого?! Я одна – то заработаю мало, а они втроём работали.
Ну и чё?! Они сварили кашу мушну, эти две сястры, густеньку, наелися. А я кого?! Это битое молоко, перегонку – то эту, обрат – то, я его похлябала, похлябала. Но чё? Спать легли. Оне чё?! Подружки эти уж спят, а у меня пошто – то слюна, слюна оттуль идёт – идёт, я глотаю – глотаю её. Этого битого молока нахлябалась, слюна – то вожжой идёт. Корову дяржали несчастну, дак всё равно отдай, масло отдай, всё отдай. Битое молоко одно.
И опеть назавтре давай курнаться. Да покурнайся – ка голодный! Да как дюжили ешшо?!
Нас, мама говорила, семеро ли чё ли было – то? А мы двои остались, а маленьки умирали. Раньше - то скарлатина, да тиф, но всяки болячки – маленьки, гыт умирали один за однем. А мы двое зажились, не сдохли. (Битое молоко. Молоко, пропущенное через сепаратор)
Воспопинания Мавры Семёновны Замащиковой (1916г.р.) жительницы д. Бачай.
Раньше байдоновские всё ярушники стряпали, ярушники да мушники. Это когда ячмень мелят, сеят его, он же колючий, сеят. И вот на простокваше замешивают его,и вот так же квасят дрожжи, квасят, а потом на противни так кладут, поварёнкой, блюдцем ли, и вот сразу же в печку, а то они расплываются, ячменны мушники, а вкусны, исти –то можно было. И ковриги были аржаные опеть. Коврига эта была – вот такие булки тоже, русска печка больша же была. Квашня пудовая, не лучше. У нас вот большая семья, да работали – через день мама квашню стряпала вот такую. Двенадцать – пятнадцать калачиков состряпат за перво, это пшаницу если, а потом опеть десять – восемь булок, сколь войдёт. И вот тут их съедали, не покупали.
И тарочки так же. И я стряпаю. Булочку скаташь, да стаканом, стакан сверьху, эти вот так обрежу, на серёдочку, вот так помнёшь, положу, а потом вдвое – вот и булочка, тарочка. Вот коврига, тарочки, булочки. У нас вот тут эта была, байдоновская, приходит в магазин и говорит: - дайте шанег. Не булочек, а у нас шаньгам звали, щаньги – то. Пирожки, шаньги. (Байдоновские. О жителях села Байдоново)
Воспоминания Марии Михайловны Тимошиной (1924 г.р.) жительницы с. Тимошино.
Вот мы с этой с Марусей Григорьевной вместе росли в Бойдоновой. Она тоже бойдоновска. Мы вместе с ней росли, у ей тоже матери – то не было, вот мы с ней подружки были. Дак мы кого делали? Мы вяжем – вяжем снопы, придём к ней, печку железну затопим, печёнок насадим, полну печку. И вот придём, наедимся и опеть потом пойдём работать.
Вот и звали, что бойдоновские печёнки, как прозвишше. А у их и картошки – то не было. Я схожу, полну сумку накладу картошек дома. Наташа говорит: - Ну, опеть куда – то поташшила, кого – то опеть кормить. Я говорю: - Ну и чё же?! Надо,- говорю,- кормить же. Кого? Оне ведь голодны.
А у их тоже мать умерла, их осталось четвёро: два брата и сетра у ей ешшо была. Вот их четверо осталося – и пожалуйста! Чем – то их надо было кормить. А она сама –то, бедна, день и ночь работала. Она хоть постарше была. Ей, ой – ё - ё, тоже хватило.
Я то всё с мужикам ездила, то на покос. И вот в Кочне жила четыре года, наверно на покосе. В Балыхте, где- то на Балахне жила – везде, везде. И дрова пилили, и возили. И всё здоровье угробили.
А теперь вот сижу, никоо не вижу и не слышу. И не знаю, как доживать до смерти. И работали – работали – и ничё не заработали. И никто никода не спросит, что мы так работали по – самашедчи. Мы день и ночь работали, и всё здоровье угробили, а теперь сидим кавыкам. Я уж ноги на бугор заташшить не могу. Угробилися. А теперь нас не видят, нас и не знают, что мы эту войну – то…сберегли людей.
(Байдоновские печёнки. Прозвище, отмеченное у старожилов Приленья)
Воспоминания Николая Павловича Коношанова (1929г.р.), жителя с. Коношаново
А у изюбря печёнку сырую едят которые, прямо свежую, но и которые кровь пьют свежую, выпускают и тут же пьют кровь… И медвежью жолость выделывают её, варят эти панты, на водке потом настаивают, пантокрин получатся. (Жолость.
Желчь)
Воспоминания Натальи Степановны Томшиной (1902 г.р.), жительницы с. Коношаново)
К концу войны оперовали чуток. Я конюшила зимой. Через пятидневку нам хлеба понемногу давали. Или зерном, или мукой. Хоть с откусом, но всё равно, давай сюда. Зерном, дак мы на круподёрке взмелем да кашей варим. А мукой, дак бурдучокзаварим. Там картошка, там капуста. Забурдучим. Вот ить как жили – то. А хлеб – то! Его куска, доча, не было. (Забурдучить. Заправить мукой жидкую пищу
Воспоминания старожилов – жителей с. Рудовка
Суп из лебеды
Лебеду промываем, мелко крошим, спускаем в чугунок с кипящей водой. Если есть возможность, заправляем молоком. Если есть картошка, то в суп хорошо бы добавить картошки.
Суп из крапивы
Крапиву промываем, ошпариваем кипятком, мелко крошим, опускаем в чугунок с кипящей водой, солим по вкусу. Если есть картофель и овощи, то добавить по вкусу.
Баланда
Кипятим в чугунке воду, бросаем горсть муки или отрубей, добавляем соль по вкусу.
Чай морковный
Мелко нарезаем и сушим морковь. Горсть сушёной моркови заливаем одним литром кипятка, настаиваем 20 минут.
Крупяники
Из колосков вышелушиваем зерно, толчём в ступе, очищаем от мусора. Полученную крупу смешиваем с мукой и замешиваем тесто. Выпекаем в русской печи на противне.
Лепёшки
Смешать любую крупу с мукой и выпекать на солидоле.
(Рецепты собраны Нелаевой Олей и Тюменцевой Аней в 2005 году в д. Воробьёво, с. Рудовка и п. Жигалово.)
Мясо
Подростки раскапывали скотские могильники, вскрывали трупы захороненных животных, отрезали, уносили домой, кто сколько мог. Делалось это тайно, так как животные пропадали от болезней, и употреблять в пищу их мясо запрещалось.
(Воспоминания Высотиной Раисы Ивановны записал Малахов Паша в 2005 году, д. Пономарёво)
Картошка сушёная для посылок на фронт
Сначала картошку очищали, затем резали соломкой, укладывали в корзинки, которые опускали на несколько минут в чаны с кипящей водой. После этого прополаскивали в холодной воде, раскладывали на решето, чтобы вода стекла. Затем раскладывали на противни, ставили в печь, запекали до золотистого цвета. Готовую картошку упаковывали в мешки и отправляли на фронт.
(Воспоминания Прудниковой Софьи Ивановны записала Прудникова Наташа в 2000 году, д. Пономарёво.)
Рыба для посылки на фронт
Начинали ловить рыбу ранней весной и заканчивали поздней осенью. Ловили женщины сетями, неводами. Обуви не было, поэтому работали босиком. Всю добытую рыбу сдавали в заготконтору, где её сушили, солили и отправляли на фронт.
(Воспоминания Рудых Ларисы Васильевны записала Пономарёва Ира в 2000 году, с. Рудовка.)
Картошка для питания
Картошка в войну очень сильно гнила, поэтому её замораживали и использовали для питания. Ели и гнилую картошку, так как урожай был скудным. В питании широко использовались очистки, которые оставались после сушёного картофеля: их жарили, запекали, варили, сушили.
(Воспоминания Прудниковой Софьи Ивановны записала Прудникова Наташа в 2000 году, д. Пономарёво.)
Зелень
Употребляли в пищу крапиву, лебеду, щавель, одуванчик, капустный и свёкольный лист в варёном, сушёном виде или сырыми. Крапиву использовали молодую, предварительно ошпарив кипятком. Листья одуванчика вымачивали 20 – 30 минут в воде, чтобы снять горечь. Немногим лучше было положение тех, кто работал на производстве: им выдавали продукты по карточкам: на ребёнка по 100 граммов хлеба, на взрослого – 250 граммов в день. В деревнях выдавали мукой
События, связанные с суеверием
Воспоминания Михаила Борисовича Винокурова (1930г.р.) жителя с. Лукиново.
«…Вот в Абакумовской паде пугало. Там падь широка, на Ильде… А там мельница стояла, в Абакумовкой паде же. Раньше-то ее Абакум держал. Дедушка Замащиков. Нарекали - то по именам раньше - то. Фамилии то одне были - Замащиковы. И вот эта мельница пугала. То свадьба приедет, то ешшо че - нидь. Человек спит, слышит: песни поют, колокольцы брякают, и подъезжают:
- Тпру - у!- к зимовью вот к этому.
Николай Максимыч на Бога заругался, покойничек. Он молол - то. Слышит, колокольцы брякают. Думаю, говорит, счас подъедут, зайдут. Подъезжают. Точно: кони фыркают, слышно. А там зимой это скобы. Он привязыват. Ну, счас зайдут. Я жду, говорит. Нету, нету, нету. Вышел из зимовья, никого нету. И в ночь, однако, раз или два вот так. А потом через несколько дней опеть вот так же. Но, а потом вот кто? Егор Тимофеич там. А-а-а, нет! Егора-то тоже пугало. А дедку Перфила, тот:
-Я, - говорит, - сколь перемолол, никого никогда не бывало.
Чё такое? Видимо, ешшо как кому. Вот. На Бога нельзя ругаться, нельзя…Грех!...» (Абакумовская падь. Название местности вдолине р. Ильда (приток р. Илги, впадающей в Лену) на территории нашего района.)
Воспоминание Машуковой Надежды Павловны (1921г.р.) жительницы д. Захарово
«Если свадьба собиратся выезжать, а он вот на дорогу, где ли, ну, встречу ли попадет, и все! Лошади останавливаются. И они все в поту, их бьют-бьют, нисколь не идут, ни шага. Вот у нас здесь старик жил, Абрамча звали, Замащиков Абрамча, вот здесь его дом был. И вот он свадьбы останавливал. А эти лошади бьются- бьются. И вот оне на однем месте стоят, тропотят, никак не идут. В дыбах… А потом попросят его (дак уж знали), что он, попросят: - Отпусти ты свадьбу, Абрамча.
Упросят. Он выйдет с бичом, бич на черне привязанный, натрое расходится на конце. Вот выйдет, вот так крест выбьет, крест на земле - то выбьет. – Ехайте!
И сразу кони идут. А то останавливал свадьбы. Вот идет поезд, много лошадей-то, парам запрягали, чё, едет вся свадьба, поезд. С колокольцам, наряжены лошади-то. А вот останавливал. Стоит если у ограды у своей, у ворот, остановит… До его доедут, и все. И больше никуды. Кони не идут, хоть убей, не идут. Встанут, и все. И вот к нему идут и просят… Плотят ему. Вот были таки колдуны…» (Абрамча - уменьшительное к мужскому имени Абрам)
Воспоминания Рудых Анны Константиновны (1926г.р.), жительницы д. Игжиновка.
«… На лесной тропинке нельзя строить зимовье. И ночевать нельзя. Вот это же было. Абросимска ночуйка-то, там же было, на Илге, в тайге заночевали, говорит, мужики, ну, охотники. Недалёко уж было от дяревни-то, километрох, может двадцать было. Но заночевали в этой Абросимской ночуйке, её боялиша, она почти что на дороге стоит. Раньше-то, может, не было этой дороги, потом уж. Просто натроплено. И говорит, среди ночи…несется, говорит, тройка вот под вид, говорит цыганской… Чертова свадьба. Еле-еле, гыт, с дороги успели в сторону, грит. По костру как проехали, весь разметали. И среди ночи потом домой утрепали. Вот.
Вот такое вот рассказывали, что ни в коем разе не ночуйте на тропинках и дорогах лесных, на заброшенных тропах. Да! Потому что ночью по ним черти ездят, свадьбу играют…» (Абросимская ночуйка. Название зимовья на р. Илга)
Воспоминания Зарубиной Анны Михайловны (1930г.р.) жительницы с. Лукиново.
«… Это было на Илге же, пока его не сожгли, это зимовье. Оно на Абросимском. Этот пастух Пимон Антоныч. Знашь? Корох там пас. Тама-ка поскотинаи опечки такие.
Сейчас заросли, наверно. Вот он колхозных корох туда гонял на ночь. Ну и один раз вот пригонят, говорит, наломал сучков, коровы ходят. А пастух же ложится, когда коровы лягут. А пока не стямнется, оне все ходят, жуют. Надо караулить. Ну, коровы улеглися, он улегся в зимовье, вот в этим вот в зимовье на Абросимском. Ну и взял эту каменичку, прутикох сухих наломал, затопил. И только вздремнул. А чё пастуху? Много - то ведь нельзя спать. А ночи - то коротки: только дреманул – отзареват уже. Лето же! Рано светат. Он думат: «Я счас вздремну» И только вздремнул – не вздремнул – в трубу стучит: - Пимон, уходи отсюдова!
Он мужик – то небоязливый был. Соскочил, спичку чиркнул, вышел, круг зимовья обошел: никого нету. «Но почудилося, наверно». Только лег, говорит, опеть так же. Но и потом чё он? Так и не уснул. Через день, на третий день опеть такая же история. Ведь не стали там спать-то. И потом ешшо кто-то вот так же. Гламно, поименно называт – Пимон!
Ну и потом взяли эту зимовьюшку, она небольшая была там, запалили её, и чуди не стало этой…» (Абросимский. Название местности, расположенной в районе с. Знаменки).
Воспоминания Екатерины Михайловны Черных, (1915г.р.) жительницы с. Лукиново
«… А тятя - то мой тоже рассказывал. Один раз ночью поехал. Это в папоротнике сидели, цвет этот брали, в папоротню садились на Купалу.
Ну и пошел. Цвет поймал, гыт, выломал. Куда девать? Взял в платочек завязал да в голяшку спустил. А голяшки-то ране каки?... Ичиги же раньше были, никаких сапогох - то не было, ичиги из кожи из своедельской сшиты. У их и голяшек нет, прямо на опушни засунул. Только, гыт, стал подходить к воротам, подходить к Бачаю,друг - то его Агапушка Тимошин едет на паре: - Здорово, Мишка!
- Ты куда собрался?
- Да поехал свататься. Дай мне ичиги.
- Да ты чё?! Дай мне ичиги! У меня видишь, старые, - тятя ему.
- Да как я могу дать тебе?
Тот уговорил его:
- Ну, ладно. На!
Отдал. И забыл выташшить этот цвет - то. Агапушка обулся в в его ичиги, схватил, захохотал и побежал. Ни коней, никого нет. Тятя - то схватиуся: - Что, идрит твою мать, сделал? Я цвет - то отдал кому? Теперь где? На мне нет. Смотрю,- гыт, - на мне никого нет, он мне же давал тоже ичиги, смотрю: на мне никого нет, босиком.
Ну, чё делать? Пришел домой со слезам. Мать давай ругать его. Раз тако дело вышло, так чё? Утром встал, побежал к Агапушке к этому: - Давай мне ичиги.
- Каке тебе ичиги? Я их у тебя не брал.
- Как не брал?
- Дурак ты, - на тятю - то говорит, - дурак же ты. Ты не знашь, кому. Ты черту отдал, а не мне. На мне нету твоих ичигох. Я их не брал.
Вот тебе и Агапушка. Это черт был, его удоба, под вид его сделался…»
(Агапушка - от мужского имени Агап)
Воспоминания Марии Иннокентьевны Власовой, (1922г.р.) жительницы с. Рудовка.
«… У нас как было? Вот едут сеять, и в этот день свет тушат. А раньше не было алектричество, лампы все… И в этот день, лампу не зажигали… А чтоб головни не было. Чтоб свету не было в избе, а то, говорели, головня будет. Головня, она черна пшеница. Быват, что черна, как сажа. В который день сеять, в тот день не зажигали свету. Тятя присекал…» (Алектричество - электричество)
Воспоминания Михаила Борисовича Винокурова, (1930г.р.), жителя с. Лукиново
«… Это дед мой Галактифон Климович рассказывал. Тоже вот так же. Турки же раньше были. С нёба забивали заряд. И вот с имям то ли куленгский, то ли чей еще охотник пришел ночевать. Всё до этого ходили хорошо. Ружья стреляли, всё, попадали. И вот он ночевал, и всё! Отрезало!... Назахтра же не стали попадать из ружья, рон потеряли. А у них был на Ильде Амос Шеметов, он знал. Знаткой… Но услышали, что он вроде ружья - то направляет. Ну, пришли к ему: - Дедушка Амос, может вот такое быть?
Он говорит: - Может. Люди портить портят, а вылечить – не знают как.
Это сколько раньше и коров портили. Испортить - то легче, а вот направить - то – не так.
- Я, - говорит, - вам, - говорит, - наверное, ничё не помогу.
- А как делаться?
Она туды - сюды вот так стрелят, а Рону нету. В белку попадут: она бегат, говорит, рявёт, кишки с её летят, а она жива, не падат. Ну, Амос подсоветовал:
- Найдите, - речной нанос. Когда больша вода откроется весной, вот этот мусор - нанос, зажгите его, в дуло поставьте и этим дымом всё это окурите.
И вот этим только и вылечили… Я вот не знаю, но это он говорил, дедко Галактифон Климович, что вот это, если когда придется, что ружье кто испортит, вот этим надо…» (Амос - мужское имя)
Воспоминания Галины Константиновны Наумовой (1936г.р.) жительницы с. Чикан.
«…Дождя не было когда, иконы новили. У нас там Ананьев ручей был, дак в ём новили. И мы ходим, вот эту Кузьму – Демьяна (икону берем, купам в речке. Выкупам, а потом на берег её поставим и камням придавим, чтоб не упала. И свечечки затеплим. Она стоит. Мы помолимся, сами искупаемся. И дождь был. Дождянку (траву) рвали. Икону вымоем этой дождянкой, замочим её (икону) в речку, с берега, затопим, камнями придавим. Помыл (икону) маленько в речке, ликом-то вниз окунули да и всё.
На берегу чай варим, помолимся, все баушки соберемся туда. И дождянку замочим… Помолимся. Иконка у нас у дерева стоит на подставочке, на полотенце. Мы-то когда несём её, полотенце на неё наденем, так её нельзя нести. Мы даже летом вот такую, подставочка сделанная из дошшечки, за иконой у меня стоит, так вот сделают,дед просверлил. Так поставим к дереву, досточку положим, полотенце одетое. И вот эту свечку затеплим, помолимся, потом чай пьем. Скоко нас придет - стоко свечей поставим. Каждый поставит на дошшечке…» (Ананьев ручей. Название реки, протекающей по территории Катанского района)
Воспоминания Марии Георгиевны Пешковой (1925г.р.), жительницы д. Бачай.
«… Деду помереть, я вижу сон: вижу у Клавдеи будто под горой большая гряда, и мы эту гряду накладываем. И долга - долга такая. А я ешшо не поверила… Я Марии, андушечке - то, с ей с колыбели дружим, рядом живем, она бурятка, ну и рассказываю, говорю: - Это чё, андушечка?- говорю - Мы с дедом гряду у Любки под горой делали и, -говорю, - вот.
- Урон, однако, будет.
Оно так и получилося потом, дед-то помер. Лида-то тоже вот так вот видала, что будто бы оне с Клавдией норку делали, у Кдавдеи-то попустилалася, а наша-то всё гребёт и гребёт. Клавдея-то сделала лесенки, а наша никак не могла сделать эти лесенки, так говорит, в яме и осталася. Так и умерла. Сон в руку…»
(Андушечка или АНДУШКА - подружка)
Воспоминания Октябрины Степановны Пешковой (1930 г.р.), жительницы д. Кочень.
Раньше ешшо, когда ездили в дорогу с Лены на Ангару через Берёзовый хребёт, дак бабу цаловали…Так её звали баба. До её, до этой бабы, доедут, надо идти, её цаловать. Если не поцалуешь, значит, не проедешь! Вот баба - статуя – то стояла. Статуя стояла на этим месте. До этого места доедут, надо остановиться, идти туды, поглубже в лес, её поцаловать. А то фарту не будет. Поцалуешь, тогда проедешь. Это вот ездят- то поцэль, по этой дороге через Закору. Это туды надо ехать. И за Тыпту, и за Балыхту. Там баба эта. Чёрный – это перед Тыптой. Место Чёрный. А потом дальше будет Березовый хребёт, за нём – Ангарский край, Ангара. (Баба – идол)
Воспоминания Катерины Михайловны Черных (1913г.р.), жительницы с. Лукиново.
Вот эта баба бела на Кичейском бору была. Она выходила один раз тяте нашему. Тятя ехал. Конь остановился. Он вылез.
- Тебе чё надо? – спрашиват. – А мне,- гыт, - ничё не надо, только похорони меня.
А это, говорит, была убитая женска. Её убили и бросили. Никто не похоронил её. Вот и выходила она. Выходила, во всём белом выйдет. Но потом (тятя - то у меня был такой божественный) он молитвы прочитал все, каки знал, и этой бабы – то белой не стало. И после того она никогда не попадалась ему. А к людям выходила. (Баба белая)
Воспоминания Надежды Павловны Машуковой (1921 г.р.), жительницы д. Захарово
На Чёрном там, от Тыпты недалёко баба деревянная стоит, надо её цаловать. Там листвень стояла, пенёк лиственнишный, вершины – то нету, упала уже. И вот кода едешь туды (это надо той дорогой через Березовый), и вот в первый раз. Вот он у меня, брат, ездил, дак, говорит, мужики то чё, их много ездило, мужиков – то, обозом – то, дак, говорит, схватят первый раз кто едет, схватят и ташшут к этой листвени, к пеньку: - Цалуй!
А то фарту не будет. Это у Бярёзового хрепта. Мы её видели, бабу деревянную.
Я вот ездила, мы ездили двое, женски. Ну, туда след был… Вот мужики – то, они схватят и волокут: - Цалуй.
Листвень, пенёк сломатый, вершина – то. Мы – то ехали, она уж пеньком была. Сколь годох стоит, по той дороге – то ездили. Её и цаловали. Она на Бярезовом хребте и стоит, туда натроплено. (Баба деревянная)
Воспоминания Михаила Нефедьевича Машукова (1936 г.р.), жителя д. Кайдакан
Это надо поэтому трахту ехать, туда вот она, как на Бярёзовый хрябёт подняться, он на правой стороне, там стояла вот эта листвень под вид бабы. Баба – деревяшка. Так её звали. Надо цаловать её. Не поцалуешь, препятствие выйдет. Ну, был такой обычай, что вот цаловать. Это со старины ешшо. Цаловали. Мы её баба - деревяшка называли. (Баба - деревяшка)
Воспоминания Клары Михайловны Чертовских (1932г.р.), жительницы с. Чикан
Была бабка здесь, была, бабка самородная. Ну, она знала. Ну, она портить ничё не портила, а делала добро… Старшая дочка бегала со мной.
- Пойдем, - говорю, - Нина, по водичку (с речки мы носим воду – то).
И вот она бежит впереди меня. А сзади наша же, своя собака (тогда собак отпускали, вольно бегали), и вот она за ней. И взади – то: - Гав,- гавкнула!
И та всё! Как моток! Сразу же упала. И я её полуживую домой принесла, сразу бросила эти вёдра – и домой. Прихожу, она всё вот так вот. Ну, отлежалась немножко и потом… Она уже говорила хорошо, это ей года четыре, наверно, было. И она, это, стала. Вся вот так вот трясётся и: - Ма-ма-ма-ма!
А потом уже вроде бы отошла, и никак, ничё. Ну, вот всё время заикается и заикается, сильно- сильно стала заикаться. А соседка (она тут вот у нас на задах ферма была, она телятницей работала), она говорит:
- Чё с твоей Ниной?
Я говорю: - знашь чё, - говорю, - она сильно заикается. Вот так вот, так вот, так вот.
Она говорит: - Подожди. Пошла: - Иди давай!
Ну, ладно. Мы пришли вот к этой бабке самородной. Липа была у нас, её дочь как. Ну, вот. Я всё рассказала, что вот так, вот так, вот так. Она говорит:
- Ну ладно. Садитесь на пол!
Мы сели на пол перед иконой. Она давай! Вокруг нас ходила – ходила и потом говорит:
- Надо,- говорит,- олово. Если, - говорит,- кусочек олова есть, принеси.
Ну, где олово? Ну, я Сашу (мужа) спросила, он говорит:
-Ну, есть свинец, а олова, - говорит, - нету.
Ну, я принесла свинец. Но, видимо олово мягше, чем свинец, вот она, такая это, чашечка, она в эту чашку налила воды, берет лучинку, зажгла – и свинец. Он капает – капает, капает – капает. Ага. Растаянный - и туда вот… А Нина – то, дочка – то, сидит и говорит: вав-вав! – собака.
И я посмотрела: правда. Собачья морда. Бабка – то эта посмотрела:
- От собаки, - говорит, - испуг.
Ну, ладно. Теперь она давай нам. Перед нами ходит, молитвы читает. Ну. Сидим, молчим. Ладно. Потом она достала с божнички святую воду, по глоточку нам дала. Нина – то побольше попила, а мне глоточек. Потом сухой сухарёк, сухарь у неё там же лежал, под божничкой:
- Нина, жуй! Жуй.
Вот это Нина сидела и жувала: - А-а-а, мама, тьфу! Тьфу, нехороший!
И зернышки дала: - Вот эти, - грит, - зёрнышки надо, - грит, - все перекусить.
Это, ну, штук десять, наверно, зёрнышек.
- Ну и идите.
Ну, ушли. И вы не поверите! Дня через три или через четыре моя девчонка заговорила! Один раз всего ходили! Я потом говорю:
- Липа! Как отблагодарить – то? Ну, нехорошо, отблагодарить же надо. Она говорит:
- Купи,- говорит,- то, что нельзя сосчитать. Что - то сыпучее, нельзя сосчитать. Ну, я ей купила, тогда же носили платья - то с файбурами – то - ой-ой-ой! Метров семь - восемь надо было на платье на одно только. Там просто стан, ни выточек, ничего нет, просто балахон. А тут начинает нашиваться – нашиваться. Ну вот, я ей этот купила и купила крупы жёлтенькой, вот просо и всё… И вот у меня девочка заговорила. И до сих пор, слава Богу! А вот сейчас у неё дочка, тоже вот она испуганная. Она и говорит:
- Вот была бы баушка Настасья, она бы… - говорит.
И вот Нина - то потом всё время к ней приходила. Она болела, девяносто лет ей было, она умерла на девяносто первом году. Вот она всё. Липа на работе, а Нина бежит. То ей чаю принесёт, то ей подаст че - нибудь. Она:
- Нина, спасибо. Гладит её: - Спасибо, спасибо!
Ага. А так целыми днями бабка – то жила. Ну, тоже никому ничё не передала. (Бабка самородная или бабка – самородка)
Воспоминания Октябрины Ивановны Пешковой (1930 г.р.),
жительницы с. Кочень.
Вот про змей. Мы кода работали ешшо, молоденьки – то были, дак вот видели: одна бабка Аксинья, вот она знала заговор – то от змей. Она шептала. Вот говорели: бабка - шептушка. Станет с нам в середку, где попадутся, она их на шею повешат, они у ей на шее вешаются. С ей никто не хочет вставать рядом.
-Ой- ой! Иди, баушка, до беды, иди дальше. Иди на край, иди на край! Ты почё здесь стаёшь?
Она гыт:
-Поли – поли, она (змея) пособлят тебе полоть, поли!
Ну, хлеб раньше полоть ходили. На поле-то. По шестьдесят, по семьдесят человек ходило. Стать выставят, она встанет где - нибудь в серёдку, где найдёт, - и раз! – на шею повешала. Вот какверёвочка вешатся, и даже хоть она же идёт, шевелится же, змея хоть бы пошевельнулася! Даже не шевелится она у ей. Вот чё – то она потом сядет, снимет её, она уползёт. Знала бабка Габида. Она жила раньше в Стреловке. А потом жили оне в Нижной Слободе. Я один раз бывала у них. Ну а счас нету, наверно их. Все её товаришши – то, все давно поумерли. Ой, страшно! Неохота с ней вставать.
- Баушка, не вставай с нам! Баушка, с нам не садись рядом! От тебя змеёй пахнет.
А она хохочет! То чё – нибыдь, то другой раз пугат:
- Ой, идите, идите, идите, она вас счас укусит.
А чё же?! Кусали же, многих кусали змеи – то. Осоку пойдут жать, она там тяпнет. С нам тут Надя Тимофеева, она укусила её в ногу, а парнишка в руку укусила. Но отошли, ничё обои… (Бабака – шептунья или бабка – шептушка)
Воспоминания Марии Георгиевны Пешковой (1925 г.р.), жительницы д. Бачай.
Ну, там есть Шамашик, там Бабушкин ручей был. А вот здесь – то вот этот ручей –то Бочай. Там вот хрепты эти, там ягоды хороши. Вот тут Подзуевска, а тут по Бочаю – Зеленишино, Жерновка. Там и поля рядом. Тут Подзуевска, тута - ка Савкино. А там недалёко Байдоново. Там на Сумейке, на Шамашке. Это всё поля… У кустох тама-ка, в Узком месте, всё по Бабушкиному руччу – то мама наша и видела полдневных – то. Ну, они как люди, но плохи, приносят болезни, припадки. Вот у ней начнет ребенок и помрёт. Вот от этого мужика родила, от второго… У нас отца на войне убило, а мать за другого выходила. И дети не заживалися. Вот эти полдневные – то и кончали…
(Бабушкин ручей. Название реки, протекающей по территории Жигаловского района.)
Раньше же бабушки роды принимали. У нас мама всё бабушничала. Одаривали её всяко. Там отрезы на фартук, платки дарили, полотенца. Это было. Скатерти. Всё дарили. У ней было две дочери. Им взамуж пойти, у ней был полнай сандук, токо не надёвано. Там юбки эти. А она вот двоим поделила. А вот этим, у ей было четыре, ну, эти, невестки, она им ничё не дала. А вот токо своим дочерям…
Рожать надо было, а он её не отпускат, дедушка. Ой, они плачут, уговаривают, чтоб отпустил. Но она всё равно потом поедет… Она и живот правила, подтяговала. Рукам как – то и мыльцем.
Мама была беременна. Ну и пошли с тятей. Тут дом, ну, давай строить оне, ну и надо было кряжи подкатить, и мама большой стяг такой взяла и держит его там. А стяг-то как соскочил и прямо маме по животу. Мама грит, я, гыт, упала, ляжу. Всё! Думаю, конец. А бабушка сразу скоре давай баню топить и маму править. Выправила. И вот Володя родился. Она и бабушничала. Ну и говорит, меня стягом – то сюда ударил, ему по лбу-то. У него такой лоб - то, грит, когда родиуся – то, и рассечёно. Вот баушка тоже всё выправила. Её все уважали.
(Бабушничать. Бабить)
Воспоминания Федосьи Наумовны Боровиковой (1913 г.р.), жительницы п. Жигалово.
И в Усть - Илге росла, и хотела умереть, и не пришлося. Тятя мой сорок годох сидел слепой. Ни одного глаза нет. Лес возил и выстегнул. Молодой ешшо. Один – то глаз, а второй – заражение сделалось. Вот у нас у баушки, у моёй баушки, у тятиной же матери был громовой камень. Вот знашь, тёмно такой зеленый. И с обоихсторон кака –то выемка, и с той, и с этой стороны. И вот эта баба лечила, вот когда у ребенка колотья. И тятя. Вот этим вот закалывал. Стрела вот, громовая стрела. Каменная… И она прикалывала. Вот ребёнок – то – базлан, вот кричит – кричит, наверно, колотья у ребенка, и вот она прикалывала и чё – то читала тама. (Базлан. Крикун, плакса)
Воспоминания Елизаветы Егоровны Ковалевой (1915 г.р.), жительницы с. Тутура.
Банная, она и по сейчас. Дак вот у нас же. Это уж я больша была, помню. Один ехал из города и заехал ночевать. Заехал ночевать, а хозяйка его послала в баню, говорит:
- Может, ты в баньке помоешься? С дороги, чё? Сходи, помойся!
Он говорит: - Да можно!
И пошёл. А время было двенадцать часов. Пошёл в баню. И до тех пор домылся, хозяйка ждала – ждала, уснула. Утром проснулася: постеля как была не мятая. Так и есть.
- Ну – ка, я пойду, посмотрю!
Пошла, посмотрела: конь стоит, сена нету. Пошла в баню. Его до тех пор допарили, что он весь котляной. А крест висит ан краюшке. Крест снял, где – то на краюшке полка висит. Котляной. Как котел чёрный. И сам на полке, крест на краюшке висит… Видно, она его заставила снять, банная – то. И добили его до тех пор, что он котляной был, и всё. Вот.
Я тоже боюсь ходить. Банную – то, её боялися.
(Банная. Демонологический персонаж, дух (хозяйка) бани)
Воспоминания Марины Иннокентьевны Власовой ( 1922 г.р), жительницы с. Рудовка
Ну, колдовали, бегали слушали на Новый год – то. Один пошёл в баню. А банище – то на берегу речки было. Там ровно место и под откос. Ну и пойду, гыт, слушать. Пошёл, гыт, сел и слушат. Полночь. Он встаёт, это, говорит, сидит с тазом, стоит там. Половица открылась в бане, вот так, гыт, половица открылась… И там огонь, пламя. Оттуда – то чёрт вылезат, и изо рта, гыт, пламя, пламя. И он ему говорит:
- Ну, отгадай. Отгадашь – живой будешь, не отгадашь – умрёшь.
Ну, я тебе три вопроса задам. Отгадывай. Что такое, первое, три косы? А он гыт:
- Перва коса – это сено косят, Втора коса – гыт, - петушья. А третья коса – девичча.
-Нет, перва коса – сено косят, втора коса – девичча, а третья коса – петушья. А петух – гыт, - свят дух.
Половица, гыт, - хоп!- захлопнулась. И ни огня, ничё не стало. Я, гыт, стал и пошёл домой…
А петух – свят дух. Петух споёт – колдовки уже не могут ничё, они уже не испортят. И вот до двенадцати они портят. Как двенадцать, с двенадцати часов, петух уже споёт, и они все по домам.
- Кто был в бане – то? Так чёрт был.
(Банище. Место, на котором находилась баня)
Воспоминания Клавдии Ивановны Дроздовой (1927 г.р.), жительнцы с. Тутура.
Такие дворы, видно, крепкие раньше же делал. Столбы здоровенные, така прямо хорошая городьба – то. А хлевы – то большие были, по четыре хлева. Поветь большая. И вот на Великий Четверьг какой – то мужик говорит:
- Ну, я сёдня, мол, сяду на поветь. Как кто явится, так мол, застрелю.
И свиння прибежала. Прибежала свиння. И вот, говорит, отбежала, по всем хлевам пробежала и говорит:
-Тут ешшо барашек сидит, надо мне его подлегчить. Барь – барь. Подзыват быдто. И он не только выстрелить, он даже слова не вымолвил. Просидел. И она, видно, повернулась и убежала, эта свиння. Ну, ноччу. Делали, делали. А ешшо кто – нибудь, видно, возьмёт да эту свинню – то чем – нибудь ударит. Смотришь: бабёнка – то в синяках. Были раньше – то, было. И на добро умели делать и на зло. (Барь - барь. Позывные слова для овец)
Воспоминания Катерины Михайловны Черных(1915 г.р.), жительницы с. Лукиново
На Бочае жил – был старик. Он сидел это, свадьба – то ехала. Откуда уж она поехала венчаться: то ли на Кичей, то ли на Кринкичее была церковь, и в Тимошино церква. Куда уж они поехали? Он вздумал распрягчи. Только доехали до их, все дуги повыскакивали, распряглись кони просто. Но, а там тысячник дорогой был, он побольше его знал. А старик – то сидел на бастрыге, на возу под бастрыгом, как кинет – так он и улетел через весь огород. Давай качать старика, зашибся.
- Вот – вот на быстрыге сидел, кони – то тут сразу распряглись. Это старик портил, он. (Бастрыг или Бастрик)
Воспоминания Клавдии Петровны Толстоуховой (1916 г.р.), проживающей в д. Кочень
У нас одна баушка, ну, до того шустра она, до того бегова была. Ни в праздник, ни в будни её дома нет, не усидит… По черёмуху пошли… А в Ильин день нельзя же ходить за ягодой. Она пошла. На куст залезла и упала, дехка, и прямо на куст этот. С дерева… От земли чё?! А куст – то сломился, она и на этот куст упала – и задним проходом. И умерла.
Вот в Ильин день нельзя было ходить. По ягоду. Ну и не работали. Так, с обеда не работали. А до обеда – то можно было. (Беговой. Проворный, расторопный)
Воспоминания Алексея Ивановича Новопашина (1920г.р.),
жителя с. Лукиново
Это отец рассказывал. Они ходили в Нитике, там зимовье было у них. На белковьё. А там шесть километров дальше. А потом один, ну, он знал, видимо, что кто портит, но он в пять раз лучше его знал. Вот он стрелял – стрелял, хватился – белку не может убить. Ну, не может и не может. Ну, чё такое? Он знал, чё надо сделать. Чё – то сделал. Ладно. Приходят вечером, рассказыват. Говорит:
-Вот такое, ребята, сёгоды к нам гости придут. – Как гость? – Но вот сегодня ночью гость придет.
Ну и правды. Вот он, говорит, шесть километров оттуль на чукорки приполз сюда прошшенья просить. А как он? Чё сделал с ём? Как оттуль переташшил? Вот и пришел. И давай прошшенья просить у него. Вот он его просил – просил, грит. Говорит: -Если,- говорит – умеешь ружья портить, дак умей и лечить их, как надо вылечить. Ты испортить – то испортил, а вылечить то ты его не можешь. Вот надо и вылечить его.
А вот он не мог сделать этого, вот приполз, говорит на карачках прошшения просить. Вот это старики рассказывали. (Белковьё, белкованье, белковка, белковье)
Воспоминания Федосьи Наумовны Боровиковой (1915г.р.), проживающей в с. Усть - Илга.
Я вот эту молитву, на охоту ее можно. На белок, зайцех ставили плашки. Я как – то белочила, смотрю, плашки. А ворон наповадился исти их. А у беуки, у зайца чё?! На спине токо и мясо. А тетка Лукерья была (она моя тетка была, материна сестра…) Пришла, вижу: плашки, и ворон выклевал беуку, горбушки. Я рассказываю, она гыт: - и давай учи.
Она мне, девка, раза два сказала, я её до сейчас помню, эту молитву – то:
Мать Марея
Спала на прекрасном месте.
С четырём свечам
Спушшусь с небёс,
Поклонюсь на все четыре стороны.
Кто эту молитву знает и читает,
Тот будет спасён на воде, и на земле,
И на прекрасном месте,
На земле и на воде…
У меня списано – то много было – сгорело всё. Эту молитву в карман. Я ребятам в лес даю – в штаны пихаю. В лес, хоть куда. Хоть куда. И в поездку. И с мужуком кто спит.
Ну, ругатся – тоже её читай, чтоб не ругаться с мужиком. Я никого не учила, эту – то одну всё время шпарю да и всё. Она помогат.
Воспоминания Натальи Степановны Томшиной (1903г.р.), жительницы с. Коношаново
Мужика – то медведь задавил на той стороне. А он сорок медведей добыл. Ему не надо было сорокового брать. Ему говрели: - Иди, Иван Федорович, сельпо покараулишь, заработашь.
- Ну, я кого тут заработаю? Я лучше пойду белочить.
Ну, и чё?! Ходил да белочил, помаленьки добувал. А тут чё? Пошёл, да не так далёко было. Вот тут пашни этой ниже – то, у этой пашни – распадочек. Там он его задавил. Пришел.
– Чай,- говорит,- надо варить.
А тода голо ешшо было, снегу – то не было. Снег – то бы был, так может бы, он сдогадался. А собачонки – то молоденьки были. Одна как вылетит, а ружжо – то далеко стояло, не успел даже поворотиться, дак одна голова осталась – объел всё: потрох весь съел, из его выдаскал, руки съел. Да стёганки были, стёганные штаны на ём были суконны. Чирки, где там кожанные, ноги – то и остались целы.
Ну, подождали – подождали – нету вечером. Потом наутро мнучек же побежал, ходил туда. Да оне где белок там ешшо били. Он сидит, медведь – то, копну моху здорову натаскау и сидит на етой копне, а дед – то под копной. Стреляли его. Такой здоровый медведишше! Убили. Ну, чё?! В деревню эту копну привезли – одне ноги. Во чё! Говорели раньше старики: сорокового не берут. (Белочить. Охотиться на белку, беличать, белковать, белковничать)
Воспоминания Татьяны Степановны Машуковой (1927г.р.) жительницы д. Захарово
У нас вот тут жил мужик один, он сильно болел, беркулёзный был. Уже не ходил. Всё говорел:
- Сходить бы где - нибудь в лесочек, в сосновый бор, - гыт.
Ну, чё? Сходить, сходить. Тут и семья, собралися, кто – то пошёл с ём. Может сын, может, жена пошла. И он сидел – сидел у этой сосны и приуснул. А потом, говорит, змея, гыт, подкралася и в рот заползла к нему. Она, гыт, долго там не была и вылазит. Вылазит и всяко, гыт, извиватся, отскребатся, она с себя это, чё там насдевала внутри – то. Он беркулёзный был. Ну и чё? Она, гыт, второй раз опеть полезла. Второй раз полезла. Вот она, гыт, тоже там сильно долго не была. И опеть, гыт, вылазит. А третий раз её не пускай. Третий - то раз она окошелится, жить там будет. Вот. И потом он проснулся, ага – то, и говорит: - Ой, Марфа, ой, - гыт, - я, гыт, - сон видел, - гыт. Такой квас, - квас, - гыт, - холодный пил. Аж, - гыт, - в горле драло,- гыт.
Она, стало быть, холодная, змея – то. Вот. Два раз если она сходит, видно, туды, вытаскат чё там есть, болесь, и, гыт, об траву отскребатся. И опеть снова, гыт. А третий нельзя: окошелится. Третий раз не пускай: останется жить там. Он, видно, всё вот спал сильно крепко. А потом и говорит: - Ой, Марфа, квас, - гыт, - пил такой холодной. Аж в горле драло. (Беркулёзный. Больной туберкулёзом)
Воспоминания Капитолины Дмитриевны Кряжевой (1930г.р.) жительницы с. Тимошино.
Дед по маме Григорий Елизарович, он женился – то – у ней не было детей – то. А там одна бабёнка жила, у ей был ребёнок, дявчонка нагуляна, они её взяли. Она её не хотела, бескарюжница. Баушка, его мать, и говорит: - Возьмите дявчонку, а то в зыбке черви съедят! Они пошли, взяли её и вырастили. А она бескарюжница в постратки, это как сейчас домработницы, уйдет и дак в поле и везде, а с ей кто возиться будет? (Бескарюжник. Бесстыдный, бессовестный человек)
Воспоминания Валентины Семеновны Рудых (1932г.р.) жительницы с. Рудовка
У нас тут одиноки старики жили. Дак мама ребятишек отправляла там или помыть пол, или – постарше кто – побелить дом. Это к одиноким беспомошным старикам. Там уж помоют, и дров наколют мальчишки, и побелишь там им, помоешь – это вот если уж сильно старенький, беспомошный или болет кто. В беде не оставляли, помогали. Всё подмогут, если уж там они…И выбелят, и вымоют. Ну, как – то дружней народ был.
Раньше много было нишших. Глядишь: один идёт, второй идёт… Много было. Просят и …ну, вот прямо чуть в колениеи не падают. Где которы дак и пригреют, и ночевать пустят. Так вот тёмно – куда пойдут? Ешшо зимой дак и ночевать пустят, и накормят, и в бане вымоют. Если баня есть готовая, дак и в бане помоют. Вот так. (Беспомошный. Беспомощный, слабый.)
Воспоминания Устиньи Степановны Кокориной (1907г.р.) жительницы с. Дальняя Закора.
Но, а раньче так было: если в новый дом заходишь – кошку вперёд отпускай и углы обмывай от боганьки, боганьку обмой да боганькин угол обмой, его поприскать святой водой надо. Вот так раньше говорели… (Боганькин угол, Богов угол. Божница)
Воспоминания Марии Георгиевны Пешковой (1927г.р.) жительницы д. Бачай.
А вот и говорели раньше, что медведь – богов медведь есть, он на ём ездиет. Он такой как и все, токо метка у него есть на спине, или на морде бела. Так пошли и заблудились. Да небольши мы были. Тоже ночевали в лесу – то. Пошли то мы в Мельнично, а вышли в Подзуевску. Ночевали на сендухе. А отзаривать – то зачало, видим: медведь стоит в голубишнике – то. Седловина у его ошаном, узда. Говорят, меченый! Половина бела, шшитай, половина тёмна. Туша – то. С нами стара женска была. Стары – то говорят, мечены не трогают, медведи – то. И вот ён пошёл и будто нас зовёт, манит, чтоб мы – то пошли.
- Давайте, дявчонки, - говорит,- бягим за ём.
И ён нас вывел по полям. У меня аж чирки – то все мокры были! Ну и отошли маленько и вышли на луг, смотрим, люди косят да гребут…
(Богов. Божий, созданный богом, близкий, угодный Богу, богом хранимый.)
Воспоминания Натальи Степановны Коношановой (1911г.р.), жительницы с. Коношаново.
А вот его звали Хомой. Хома Антоныч, он охотиуся. Ну и идёт по тайге – и старик ниоткуда те возьмись.
- А ты,- говорит,- чё тут делашь? – Да белкую,- говрит.
-Добувашь, нет кого? – Да никого,- говорит,- не добуваю.
А раньше нюхали табак. Он вытасковат банку берестяну. Руки – то выташшил из рукавиц, а у него ногти – то вот такие! Ну, чёрт! Вот так, говорит, захватил из банки, так чуть не всю. Нюхал, нанюхался. А тот мужик – то посмотрел.
-О-о-о, - говорит – да кто это?
Подумал: «Ну, нечистая сила…». И теперь оглянуйся да спрашиват:
- Ну, как добываете?
-Да никого, ничё.
- А ты придёшь, говорит – боковушку – то не закрывай, - говорит, - стукнешь, - говорит. А то раз никого не добывашь, так чё ж…
Ну и теперь он пришёл, печку истопил, боковушку не закрыл. Где – то в полночь, часов в двенадцать, слышит: шлёп, шлёп, шлёп в боковушку на пол. А он - леший белки набросали два соболя бросил. Вот так.
- Будешь,- говорит,- добувать.
Потом стал ходить добувать и добувать. А то никого не добувал. Весь день, говорит прохожу, и ничего нет. Белки две добуду. А тут, вот сколь накидал. Потом, говорит, назавтре встретились на путике же.
- Ну, чё,- говорит, - было у тебя?
-Да,- говорит,- немного попало в боковушку.
И так помаленьку и добувал мужик. А потом, говорит, как оглянулся, говорит, - нету старика – то! А вихрь вьёт сзади. Ни неба, ни земли не видать, говорит. И не стало его. Улетел. (Боковушка. Заслонка, задвижка у дымовой печной трубы, расположенная сбоку)
Воспоминания Татьяны Степановны Машуковой (1927г.р.) жительницы
д. Захарово.
А одна тоже здесь женшшина у нас, жигаловская. Это дело было в войну. Она же нам рассказывала. Мы, гыт, пошли по орехи. А снегу, гыт, ешшо не было. Да вот оне где - то вот здесь, на этой горе замёрзли. Мать замёрзла и брат. А я, гыт одна осталась да заблудилася. Пока, гыт, там ревела да плакала, да хоронила, гыт, их копала, гыт яму, потерялася, гыт.
А потом она на пятнадцатый день токо вышла оттуда. И стречалася, гыт, с медведем. А медведь, говорят, если кто заблудится, он выводит. Он не трогат. Блудящего не трогат. И, он, гыт, потом вывел меня. А така, гыт, стояла лесина, он, говорит, вот так её наклонит, пропустит меня. К другой идёт. И вывел меня. А я уж, говорит, ходить – то не могла. На коленках ползала. И вот, пожалуйста, вывел. На Тихое плёсо вывел. (Блудный)
Воспоминания Клавдии Петровны Толстоуховой (1916 г.р.) жительницы д. Кочень
В четверг Великий онеть. В Четверг Великий у нас баушка, она так делала: вот наберёт богородничной, во хлев идёт, эту траву зажгёт, обойдёт вот так от, этой травкой помахат. Потом берёт… раньше – то был, это, не уголь, а еслив нету, то вот вар, делают крестик на воротах, на дверях. Вот у избы, где хлевы, там сделают, дома. У нас баушка это делала. (Богородичная, богородская)
Воспоминания Галины Константиновны Наумовой (1936г.р. ) жительницы с. Чикан.
А в Благовещенье. Это же Божественный праздник. Боже упаси! Но мама даже не давала. Девица, говорит, косы не плетёт, птичка гнезда не вьёт в этот день! Девица косы не плетёт. Она не давала нам заплятаться, мама, не велела. А счас тоже ничего делать не буду! Дак, а может всяка беда – то приключиться. Благовещенье, он большой праздник. (Божественный праздник. Церковный праздник)
Воспоминания Евдокии Вениаминовны Замащиковой (1930г.р.) жительницы с. Тимошино
У нас был мальчишка, Ванька Домнин (мать его - Домна). Мать пахала, там у нас назывался Болонник, ну, оно како – то нечисто место, а весной было, в мае месяце – то, конец мая – начало июня. Он играл, гыт, на меже, скоко – то время прошло. Она чё?! С конца до конца на лошадёнке там это плугом. Хватилась – Ваньки нету. Туды – сюды – как скрось землю провалился. Так и не могла найти. День проходит, другой, она приезжат в деревню, ну, там два километра до деревни – то. Приходит. Свёкру говорит:
-Ванька куда – то, - гыт, - девался.
Он гыт: - Чё?! Лихоманка Домна, парнишку оставила, где так?
Пошли всей семьёй искать в ночь. Всё прокричали и с собаками прошли по всему Болоннику, как вот там, с той стороны овраг, с той стороны речка идёт. Нету мальчишка. Ночь проискали, домой пришли – нету, не нашли Ваньку. Ну, чё?! Давай всю деревню подымать: - Пойдймте парнишка искать.
А чё он?! Лет семь ему было. Всю деревню подняли. Всей деревней вот этот Болонник прочистили: поле и до лесу. Скрозь как землю провалился.
А у нас была баушка боговерушшая. Ну, к ей, к этой Шурочке. Она достала, посадила петуха на ворота, молитву прочитала. Петух повернулся, похлопал крыльями и пропел. И она и говорит:
- Если он живой, то он услышит петуха и на крик петуха выйдет.
Пошли назавтра, опеть ишшут этого Ваньку. Нету. Потом кто – то… Там на луг гоняли коров, и через речку – то был мост, и эта женшшина, чтоб речку не переходить, она пошла по мосту. Идёт. А Ванька на мосту лежит спит. Ну, а чё?!
Уже трое суток прошло, он уж там обессилел. Вышел на мост и спит. А там кто – то ехал на лодке. От берега недалёко тут, она кричит:
- Пристаньте, - мол, - Ванька – то, - мол – Домнин, заберите, положьте его в лодку. Мне – мол, - его не унести.
Ну, чё?! Привезли. А кода второй день они ходили, искали его, дедушка Василий рассказывал, что кода они подошли там к тайге, обошли поле – то – нету (а дело уже под вечер было), и, говорит, мы токо, гыт, к тайге – то как стали, гыт, подходить, поднялся, гыт, вихорь. И, гыт такой нехороший вихорь, но как нечистая сила ли кто ли…
А потом кода вот унёс, ну, сонный, так его несли, он как пропашший спал. Не почувствовал, что в лодку положили. Потом уж там скоко уж он выспался, встал, мать у него спрашивает:
-Ты где, родной, был?
Тётка Домна сама маме моей рассказывала, я, гыт, у него спрашиваю:
-Родимый, ты скажи, где был, далёко ль? Мы тебя стоко искали – искали!
И он сказал матери:
-А мне,- говорит,- велено тебе не говорить, где я был. Меня водил дяденька с бородой.
Ни матери не рассказал, но он токо сказал, что меня водил дедушко с бородой, и всё…
Воспоминания Федосьи Наумовны Боровиковой (1916г.р.) жительницы п. Жигалово.
Грыжу – то я черчу. Она быват, что болонь прогрызат. Но я лечу на полене:
Полено, засыхай,
Грыжа, засыхай.
Это сук. И всё.
Как на полене сук засохнет, засыхат, стекат,
Так и у тебя, раб божий,
Грыжа засыхай и стекай.
Выйди из тела, дикое, вон.
Она вот эта, девчонка – то… Привезли оне её, я испугалась: она запушшенная. Думаю: «Нет, я ей не буду ладить». Я боюся. Шибко уж страшно болонь прогрызла до кишок аж. Ну, думаю, не вылечу. Но ничё. Вылечила. (Брюшина. Болонь).
Воспоминания Натальи Петровны Дуловой (1911г.р.) жительницы с. Дальняя Закора
Ворожить на росстанье ходили. Верхотуровы бабы были с нами. Ну а нам чё, дуракам?!
А на реке были пролуби (тогда же с Илги воду брали), три пролуби. Одна белье полоскали, потом втора такая кругла пролубь – воду возили, а коней поить была така длинна, така широка пролубь, така, как корыто сделана.
Ну и ладно. Оне нам говорят… У нас волосы длинны были, оне нам говорят:
- Вот идите на реку, вы не вздумайте в эти пролуби ложиться, а ложитесь в конску пролубь. Расчасывайте волосы и к конской пролубе ложитесь, и волосы туда в пролубь отпускайте. У кого волосы в кучу смёрзнутся, тот дружно с мужиком будет, а у кого нет, тот драться будет.
Ладно. Нас человек, наверно, шесть пошло. Мы хоть сникитили, дуры – дуры были, но смикитили, говорим:
- Все не будем ложиться. Давайте кого – то одного оставим. А вдруг мы примёрзнем к пролубе – то. Мы потом чё делать – то будем?
Ну ладно. Оставили мы одну сторожем. Точно, двое примёрзли! Ага! Оторвали, оторвали волосы! Там чё?! Бровки вот такие вот. И вот к этой бровке, голову – то на бровку положили, и волосы туда, в воду. Ой, пришли! А те над нами хохочут, что мы пошли в эту пролубку – то. (Бровка. Возвышенный край обочины дороги, канавы, проруби и т.п.)
Воспоминания Анны Иннокентьевны Замащиковой (1932г.р.), жительницы с. Лукиново.
А дедка Ананий, мамин отец, он ехал в Христофоровой отсюда, или откуль. Тоже, говорит, белая баба, высокушшая, белая баба за коня, за хвост подцапилася и бежала ташшилася. Он гонит во весь душок. И она, говорит, не отстаёт, эта бела баба. Потом отпустилася. Какая – то высока бела баба. Я вот от дедки слыхала и от бабки Валентины про эту бабу. Я стала подходить, молитву читать, читать, читать, подошла – никакой бабы не оказалося. А мы счас молитву не знам. Вот так увидим, помрем со страху. Никого же не знам. Почудится, так помрёшь. Вот уж бела баба у старой пашни пугала. (Во весь душок. Во весь дух, очень быстро, с большой скоростью, стремительно)
Воспоминания Елены Севостьяновны Дроздовой (1923г.р.), жительницы с. Тимошино
Женихов загадывали и всё. Кто женихов загадат, кто невесту себе, раньше. Бросали, это вот на Старый Новый год бросали, валенки через вороты бросали. Помню, если упадёт дыроватый валенок, упал починетый, значит, за бедного пойдёшь взамуж. Если нормальный катанок упал в снег, дак, значит, за богатого выйдешь взамуж. В дугу ползали. В дугу переползёшь – не заденешь, дак значит, счастлива будешь, а заденешь, дак плохо будет тебе. Всё это, вот это всё шшитали кого – то. Ворожили кого – то всё.
(Дыроватый. Имеющий дыру, изношенный до дыр, рваный)
Воспоминания Екатерины Михайловны Черных (1915г.р.), жительницы с. Лукиново
Мужики на охоту поехали, на берлог ехали. Ну, трое их поехали. А Марфа – то из окошка проводила их, нашоптала, видно, чё – то. А один мужик ехал, взадях ехал, она тех-то пропустила. А этого тоже, видно, хотела попортить, охоту. Только в окошко хотела глядеть, а он схватыват ружьё.
-Я,- говорит, - сейчас пристрелю тебя! Ты бросишь свою дурную привычку.
Она убежала от окошка – то. А те – то стреляли – пух – пах! Живят – токо, а этот –то бил медведей. Попадал. А те – то стрелят – он как бежал, так и бежит. Медведь. Ну и Санька – то приехал домой и отлупил её, мать – то. И до самой смерти всё колдовала, жаба.
Воспоминания Ларисы Гергиевны Коношановой (1932г.р.), жительницы с. Коношаново
Это всё у нас баба рассказывала. Вот мы, она нам начнёт вот это всё страшное – то, мы:
-Баба, больше нам не рассказывай. Я это всё запомнила до сих пор. Ой, она много рассказывала. Она, гыт, я утром пошла по коров, надо было коров дойных домой пригнать, подоить. А с этих с польков, гыт, едет свадьба. Одиночка бежит и две пары, колокольчики, гармошка играт, песни поют… А там всё вокруг было огорожено, только были заворы, чтоб разгородить и выезжать. Ну и одиночка подбежала к ним, заворам, и сразу, гыт, я к заворам подхожу – и свадьба эта. Я, - гыт, подошла, на коленки упала, гыт,- они за завор забежали – ни коней, ни гармошки, ничё, гыт, не стало. И куда всё, гыт, провалилось?! Вот какие были колдуны! (Завор. Разборное звено изгороди)
Воспоминания Ларисы Гергиевны Коношановой (1932г.р.), жительницы с. Коношаново
Вот эта Люба, и ихна невестка Татьяна, и Тамара Терентьевна была – они вечером шли в клуб. И с ними один был парень, он приезжий был, но здесь жил у сестры, Дуси брат. Ну, чё, оне идут, она вот старатся к ним в серёдку меж ног пролезти. А он был в кирзовых сапогах. Они кричат ему, гыт:
-Саша – бей её, пинай, сапогами – то. Он, гыт, её бьёт, пинат, а она всё равно лезет. Но побежали по домам, зазепанили. В ограду – то все забежали, ворота – то заложили, её – гыт, не стало. А назавтра – то, её Агафья Кириловна звали, назавтра – то, говорят, не видать её. Потом, гыт, она заболела. Ну и чё, он её сапогами – то кирзовыми пинал по куда попало: по ногам и везде. И у ей, гыт, ноги – то вот такие были, все, гыт, опухши. Ну – ка, мужчина кирзовым сапогом пнёт! (Зазепанить. Громко, во всё горло закричать, завопить, заорать)
Воспоминания Александра Александровича Чертовских (1932г.р.), жителя с. Чикан
Старик пойдёт крючья ставить, делать заездки, долбит. – Ничё, старуха, я не добыл.
-Надо мне тебя проводить – старуха – то. Вот тут проводит через логотиночку до бугорка тут, ручеёк такой, проводит, саночки возьмет туды, пешня, лопата, куль.
- Ну , теперь иди, старик.
Как пойдёт, в этот заездок выдолбит – полморды рыбы. Как пойдёт на крючья – на кажном крючке. Утром идёт – на кажном, вечером – почти на кажном. Вот она знающая была, шептала. Бабка – шептуха. И так же его сын сейчас. Дак она жива, его мать – то, была – пойдёт…
- Мама, - говорит, - соболя появились в Мостовке.
-Ну, Володя, - говорит, - добудешь.
Всё, пойдёт. В сирочках стелечкох (трава такая есть стельки, мягкая) снопик вот такой ему. А чё там?! В чирки. Там травы нету, чё ли? С наговором, стало быть. Вот эти стелечки он подкладыват – Володя больше всех добудет соболей. Это значит, черти гонят их к Володе – то. Или соболя Володю ишшут бегают! И всё. Она умерла – он на работе был, и ничего не передала. А утром отцу говорел:
-С мамой тяжело, а ты меня на работу отправил. Охотились, теперь не будем охотиться, всё. Так оно и есть.
Стельку осенью готовят, делают кисточки, а потом обувь – то была – чирки из мягкой кожи, все в чирках ходили из мягкой кожи, туда ложат стельку, траву. (Заездок. Рыболовное сооружение)
Трудные годы в тылу
Воспоминания Петровой Марии Ивановны (1922г.р.) жительницы Жигалово
«… У нас орешник километров десять от нас. На горе. Вот в голод - то мы им поправилися, орешником этим. А не отпускали же. Работать надо было. Война! А мы с Аришей крадче убежим. До табора дойдем и начинам быстрее бить. Я колот таскаю, бью колотом, она собират. Я ее потом у колота оставляю, сама к табору оташшу кулям шишики эти. Семь кулей в день набивала. И вот в день набили, истерли вечером и в ночь опеть домой. Пешком прибежали утром на свету. И пошли на работу. Теперь чё? Орехи-то там осталися у нас, в орешнике. Теперь как? Смекам, как эти орехи вынести. Ну и ночью с Аришей коней тихоньки поймали да и поехали. В лес заехали - как в поле залезли: трава, мох. Как проехать? Там толшько копытница – тропинка ископычена, не така же дорога, твердо чтоб. Верхам же ездили по этой вот ископыти. Приезжам туда, кричим. А там двое старикох жили, битаки, орехи били. Один без руки, другой без ноги. По половине мужикох. Иван Петрович, покойник, без руки, он вот таки шишки нажарил. Мы приехали. Ну, чё? У нас орехи готовы. Чуть- чуть открашивать стало. Зарево. Надо ехать домой. А мы голодны! А надо же выть утолить. А у нас там орех крупный, ядреный, сытный. Назобались. Но давай грузиться: ошаном наложилиша, привяжали, абаки таки ременны были, от седла- то ремни, чтоб груз привязать-то, ну и утянули, поехали.
Чуть- чуть отзареват. Домой приехали, коней выпустили. Орехи спрятали. И я прибежала, на печку легла руцку. Лежу. Бригадир прибегат: - Марея! Ты дома?Дома.
-Ты куда сёдня ездила?- Ой, никуда я не ездила! А у самой душа сыплется! Не признаюся. Но все равно. Раз!- собраннее. Да так прочистили! Со слезам, что клятву даем, что больше никуда не пошлёмся. Трудодни сняли. Вот как раньше! А счас чё? Воля! А раньше стро-о-го…» (Абаки - ремни у седла для привязывания поклажи)
Воспоминание Томшиной Мавры Ивановны (1905г.р.) жительницы д. Коношаново
«… А жила - то. Абой! Голод же! Ни скинуть, ни одеть, ни в голову положить. Мы сильно бедно жили. Я в Киренск поехала учиться. Впроголодь жила. Война же! Ну и кров стала сдавать, по пятьсот грамм сдавала. Кажный месяц. Один грамм один рубль стоил. Пятьсот рублей платили. Ну, на нынешние-то деньги это сорок рублей. А ела то один раз в сутки. В шшепку вытончала! По восемь часов училася. Жила у хозяйки. Голод.Стала кров сдавать, дак там хоть горячий обед был. Ну а потом, дехка, стала болеть, круженне, память терятся. Сердчишко-то, видно, истрепалось. Кров-то сдавала, а деньги-то, я на их маме купила сарахан, кохточку, ичиги две пары, брату сшила брюки из куска, сукно такое было реденькое, хотела себе на костюм, но ладно, брату брюки сшила. Жениться же ему. А потом привезла на свадьбу брату двенадцать килограмм сахару. На кров купленный. Тятя завел бражку, он уже болел сильно, завел от бражку... Кровяной сахар. В один вечер вышмуручили…»
(Абой - восклицание, выражающее удивление, изумление, недоумение, возмущение)
Воспоминания Бузиковой Александры Степановны (1912г.р.) жительницы с. Усть-Илга.
«… Нас авакуировали - то уж потом. Голод же! Исти - то нечего. И вот все до крошечки, всё съели, клей картошешный на окошках, все - все съели. И мама с Нюрой, со старшей, пошла в лес, набрала вот этих поганок-то, мухоморников, печку русску растопила, в чугунок все высыпала, напарила там. А семья больша. Которы - то пухнуть стали с голода. Ну и мама сварила, нам по чашке налила, чтоб уж всемям умереть вместе. На ночь наелися, чтоб утром уж не встать, чтоб во смерть заспаться. Мама на коленочки, у нас иконочка была Матерь Божья, мама на коленочки встала, помолилаша. Нас поставила. Мы помолилиша. Ну и чё вы думаете? Мы не то что белый свет потеряли, мы сыты стали. Не отравилися, ничё. Вот, Молитва! Мама помолилаша, накрыла нас потником - то. Вот.
И потом вот нас авакуировали. Потом уж ничё, получшело… Божественно слово, оно же сильно. Я все своим детям, внукам, вот счас говорю: - Господи! - говорю, - не теряйте Бога!...»
(Авакуировать – от слова эвакуировать)
Воспоминания Машуковой Татьяны Степановны (1927г.р.) жительницы д. Захарово.
«… А счас тока на Аверьяновых каплях живу. Дак а чё? Здорова ли чё ли? Всю жизь прожила в недохватках. Всю жись. А в войну как жили? Вот едешь, моя, на поле, никакой котомочки нет с собой. Хлебушка не было, нечего положить. Вот если жниву пашешь, подожгешь колоски и сготовят пустоварку… Из капусты суп. Ой, не дай Бог! У мамы до нас были дети. Умирали. А потом мы вот трое зажилися. Мама умерла, она не могла разродиться, и умерла. Мне было пять лет.
А потом тятя женился на мачехе. С Ивды взял. Она нас плохо содярживала. Выбросит меня на улицу, я с коровами ночевала. Вот коровы придут, в ограду лягут, я залезу к ним в круг, ночевала. Сколь раз! Выбрасовала. Да била нас. Бьет и выгонит на улицу. Я там застыну вся. Плачу. Сердце видно надсадила. Откуда счас здоровье? С Аверьяновых капель не слажу. Била как! Голову, по голове била, так волосся не росли, она мне даже разбила голову. Я маленька стала коров доить. Шесть лет. Тяну эту дойку, руки- то слабы, тяну и в рот успеваю. Ись охота. А она увидела и по голове навернула. Ой, тяжело было!
А потом тятю забрали. И вот мы остались горевать. С мачехой же остались. А носить-то нечего было. Тут - то вроде хурмушка суконна, а тут - то почти голо. Вот мешок галахаяный, его возьмешь, штаны выкроишь. Ну, тут подвяжешь. У меня тетка вон жила в Тимошиной, тетка Марея. Я приду, она мне платте сошьет, да ешшо покрепче старатся. Обдересся об эти снопы - то, об солому - то. И Николай даст чё-нидь там, како - нидь пальтишко или пинжачок. Мне платок вырежет…
А исть-то брюхо заставлят. И потом я стала кусошничать, по кускам ходить. Пойду с котомочкой, холшова котомочка была така, её через плечо, и пойду по деремне. Приду. На ногах одне отопки. Ичиги все продыроватят. Хожу, кто чё даст. Новой дак раз и обворуют. Дадут картошек котелок, а платка - то опеть нету. Ишь как!...Вот за котёлок картошек отдашь этот платок… Уж не том что ситец, а такой, как его, сатиновый какой - нибудь, то в цветке такой…» (Аверьяновы капли то же настойка валерианы)
Воспоминания Натальи Степановны Томшиной (1900г.р.) жительницы с. Коношаново
«… Я ить тогда адали не умерла. Дак коза спасла. Время - то было бесхлебно. Из куля в рогожку жили. А у меня на руках дети малыя. Одне на ногах, другие в тороках. Оголаживать их ли чё ли? Испитушши таки доспелись, доуги да худы. Мой серёдошный Василек совсем оошшал, ему сколь годков - то было? Шесть было. А тут мы пошли с ём на зады в огород коноплю рвать. Я пока рвала, смотрю: ён стороночку дёржит. Подхожу. А ён коло птички бродит, там птенчик мертвый лежал, воробушко, чё ли-то. Потом схватил её и съел. Ой, тут - то меня прижало, сердце-то взыграло! Всюё вывернуло. Чё делать? Утром, думаю, пойду в тайгу. Наутро взяла нож и в тайгу. Вясна уж на подхоже. Забереги кругом. У нас собака палева была. Когда мужика - то на войну забрали, я себе зарок дала ету собаку, она ешшо шшаненком тода была, до его прихода охранить. Чё сами ели, то и ей давали. Я её с собой, девка, взяла в тайгу - то. Ну и иду. Дошла до имурины, собака залаяла и давай рваться. Дух - то, видать, хватила. Я подхожу, а имурина глубока- глубока, и ручей бежит. Она - туда. Я скользом за ей, в имурину ету. Смотрю : инзаганчик. Мне надо бы, дуре, по голове палкой бить, а я возьми да горло давай резать ножом. Ой, она как зарявет, как маленький ребенок. Я оттуль выскочила, меня так вот всюё колотит! Боюся.
Теперича там коряга была, листвень падала, и коряга. Ну, чё? Кров- то я добыла. Она туда-ка у коряги етой дошла, кровью захлебнулась. Я спустилась в имурину в ету. Боюся. Она как младенчик рявела. Ну, я давай её обдирать. Оснимала. Шкуру тут бросила, лёгко, кишки, осердия – все бросила… Мясо в мешок, на коня ошаном положила. Но. И домой. Привезла козу, она, имануха, была уж суягодна, у ей два козлятки в животе. Грех! Но чё делать? Умирать ли чё ли? Приташшила домой. Отшляшила кусок, нажарила, наварила с картошкам. Кто голодовал шибко, созвала. Поели. Ежели бы не коза, то, шшитай, бы померли. У нас в деремне много в войну померло…» (Адали - применяется как наречие едва, почти, едва не)
Воспоминания Нины Николаевны Лосевой (1924г.р.) жительницы д. Тыпта.
«… Ой! Досталось нам! Война - то! Я училась в Жигаловой, в азямишке ходила, он из самотканины такой. Всю войну, все детство в ём проходила. Мама шила сама. Тут Тарабановы поля были, раньше продснаб садили там картошку. Так весной ходили, собирали эту мерзлую, выкапывали лопатой. Ведро изогнут да на ём нажарят. А я тороплюсь и не ем. Оне хоть там печенок напекут этих, вот таки ошурки-то испекут да поедят, а я тороплюсь побольше насобирать да и больше унести. А сколько потом было идти в Рудовку, в таку даль! В Крошни накладешь да несешь. Я маленька была, дурна была: кто плачет, я стою рядом и плачу. И я с ём горе мыкаю, тут же стою ряву…» (Азямишко. Верхняя мужская длиннополая одежда из домотканого сукна)
Воспоминания Клавдии Савичны Тумаковой (1923г.р.) жительницы д. Воробьево.
«… Мама моя Капитолина Лавровна Тюменцева. Акапья звали, она пела в хоре. Ой, знаете, как она пела! Ой, как оне четыре сестры. Щас уже ни одной живой нету. Церковь - то у нас в Верхоленским была, у нас не было своей. В верхоленской церкви пели. Ходили вот на престольные праздники в Верхоленск. Сто километрох.
У нас мама ходила в Верхоленск пешком. Вот дала себе зарок, что сыновья придут живы - здоровы с войны, значит, она пешком пойдет туда. Она и ходила. Туда и обратно.
И крестила там своего брата, моего племянника, три племянника, вот этого Ложкина Витю хоронила, ходила туда, в церковь. И меня поставила крестной. Всем четвярым. А Тутурска церковь, она сгорела. Трехпрестольная церковь была. Красивая, говорят, была. Я - то уже не захватила и не видывала. Но вот мой свекр там работал. Клуб же там был, вот он сгорел. Это я помню…»
(Акапья - от женского имени Капитолина)
Воспоминания Марины Иннокентьевны Власовой (1922 г.р.), жительницы д. Рудовка.
Мы – то безбатёвщина. Тятя – то у нас беговой был, бросил мать, нас пятерых, жанился на другой. Ешшо пятерых нажил. Оне с мамой двадцать лет прожили. Ой, как дружно жили! И потом он уехал на Илгу, там зерно принимал. А там у одной отец, он колдун был, по всёй Илге свадьбы портил, все его боялись. Михей. Какой – то Бичанин был – то. И вот приворожил его. Потом отец приезжал: - Мать! – плакал – Чё - нибудь делай, лечи меня, лечи. Чё они надо мной сделали?
Вот плакал. Ах ты, мнеченьки! Приедет, плаче – и – ит! А всё равно. Чё – то, значит, над ним сделали. А он и говорит:
- Пока, - гыт,- вот тут, - гыт,- волосья не вырастут, на ладошке, отец, гыт, ваш Афоньку не бросит.
Афоня её звали, вот эту вторую жану его. Ну и она пятерых родила. Она даже ни дня не работала. Всё он сам делал. Всё сам: и на ребят, и всё, и ростил их, и всё. И потом на пенсию ешшо пошёл. На пенсию она жила. Потом он умер. Так под порогом где – то умер, у ней там. Она на ребят в суд подала. У ей пятеро, онией платили. Вот так дожила. И ни дня нигде не работала.
А вот мы росли одне. Мы маленьки были. Чё мы там понимали? Ну, кричали. У нас младшая Октябрина – то была, она кричит:
- Мама, папку пусти! Мама, папку пусти!
Ну, где пустим? Поразговариват да уедет. Чё он? Там живёт, там семья.
Мы вот росли одне. Утром мама нас подымат – хто в лес, хто по грибы, хто в колхоз, хто дома. Ну, у нас дружна была семья – то, мы маму слушались. Она уйдёт на работу, мы всё сделам: пол выскоблим, и курицам, и поросятам, и коров подоим, и самовар стипятим, киселя заварим. Ждём маму на завалинке. А тёмно. Она уйдёт тёмно и придёт тёмно. Тода же с тямна до тямна работали. Пойдём, поужинам и ложимся. Утром встаёт. Опеть нам всем разнарядку. И кто куда. Вот так. А я, мне было три годика, там фортунка была, я:
-Мама!
Я чё?! Денег же не хватат.
- Мама, я убежала на фортунку.
У меня был фартучек такой сшитый. Приду, там крутят, тетрадочки эти, карандаши, ручки там, резинки – всё это крутят. Поставят деньги – то, а я стою. Мне наложат этот фартучек полный. Я домой приду, они уже, ребята – то, учились, а я – то ешшо нет.
- Резинки, тетрадки, всё, - говорю,- вам принесла.
Фортунки – така была игра: деньги ставят, скоко - то копеек и вертят эту, крутят. И остановится, значит, кто выиграл. Вот это фортунка называлась. Вот я и ходила. Мне накладут полный фартук. Ну, кому не надо. Чё там?! Большие. А девчонка стоит с фартучком. Это в двадцать пятом году было. Ну, мне было три годика, четвёртый шёл… Они учились, старши – то, а я имям ходила зарабатывала ручки да тетрадки. Не хватало же. Потом подросла. Потом там был первый магазин, ну, счас он есть, этот большой стоит первый магазин. В Жигаловой.
Потом чё?! Приедут богатеньки – то, ну, у них ребятишки кричат и плачут, а я – хоп! В каретку заскочу и ето, ну, занимаюсь с ими. Оне плачет, а я унимаю, играю с ими, там то, друго. Оне замолчат. Выйдут эти, хозяева – то, с магазину. А мне мама уже сшила мешечек, таку сумочку. Вот так одену я эту сумочку через плечо. Мне давали пряники, коньки – горбунки эти были синеньки – то, эти красивы – то. Вот как счас помню. Коньки, конёк – горбунок – пряник. Ну, конёчек, ну, выкрашенный синеньким. Краси-и-ивы таки! Конфеток, пряников – полну сумочку накладут мне. Одне уедут, вторые подъезжают. Я опеть с ним. Опеть они. И домой принесу полну сумку. Вот и опеть кормлю.
- Куда? Куда – мама, - вышла?
- Да куда, пойду в пивмагазин. Надо пряничкох мне.
Зарабатывать иду. Убегу опеть. Опеть принесу. Ну, а потом чё? Уж побольше стала, это мне вот така стала. Пошла. Мама стала квас варить. Вот наварят, у нас подвал был хороший, квасу бочку наварит, тогда эти квасники были. Она развариват: сладкий сделат, кислый слелат. У ей те ребятишки – то таскают, а я на крыльце продаю. Три копейки стакан, как счас помню. Продам, оне опеть мне четверть принесут, я опеть продам. А квас хорошо так пили, он холодный у нас, вкусный такой, сладкий сделает мама. Варила хороший квас…
- Сколь, девочка, стоит квас?
-Вот така деньга.
Три копейки. Продаю. Ну, за лето накопим. Потом подросла. Опеть снова в лес по ягоды. Оне ходили, ягоды – то пока брали, я пока ешшо не могла брать – то, да коне наберут опеть, мне ведро ягод туда. Выташшат стакан, тебе ложка. Вот така – то черепушка за стакан. Это я не понимала ешшо – торгую сижу. Зарабатываю деньги. Ну, это, всё продам. Оне мне назавтре потом опеть ведро приташшат. Корову держали, молока нальют, мне тарак мама сварит, луку нашшиплют этим, пучкам. Вот опеть там сижу. Вот так то. К осени наторгую – пятерых оденем. У мамы машинка была. Она нам товару возьмет, сама шила куфаечки, польты эти, штанишки там, платя –в сё. На базаре ( там большой базар был) обуток наберёт: кому больши, кому малы. И нас пятерых в школу соберёт. Вот так от. Ну, потом в колхозе стали, подросли, маме помогать. Жали всё там, рожь эту. Мама научила нас. Мы эту рожь осенью это в снопы ставим, подскребам, жнём. Ах ты, мнеченьки! И руки резали, и всё на свете. Потом осенью опеть картошки. Возьмёт чуть не гектар, нас пятеро, она сама, копам картошку. Колхозную. Ну, вот так и насобирывам, насобирывам – и так и училися. Все. Все пятеро поучились, все кончили восемь классов, все. (Безбатёвщина. О детях, выросших без отца)
Воспоминание Арины Ильиничны Жучевой (1914г), жительницы д. Христофорово
Война – то, голод! Вот картошку маленько покопашь осенью, осенью покопашь картошку. Ну, вот зайцы, зайцев много было. Мы раньше называли не зайцы, а ушканы. Много добували у нас ребята. Ванюшка побежит с Васей, ушканов приташшит, по десять – двенадцать приташшат за раз. Кода по пятнадцать. Ага. И вот эту ушканину ели. Под чисту белку ели! Всё ели.
И потом чё?! Ну и свинишек держали. Ну, там сала – то сильно не было, но мясо-то было. Ну, там две штуки держали. А чем, было кормить - то? Оне такие тошшие, свиньи – то тошшие. Картошку себе не хватало, а их – то надо картошкой, хлебом кормить. А мы когда сами хлебане видели. Вот всяко - разно как - то. Как – то ешшо выкармливали свиней, мало - малешных хоть каких, но выкармливали. Но коровёнка была. Но вот так всяко. Но большинство всё больше зимой были голодом. (Под чисту белку. Охотно, с аппетитом съесть что – либо)
Воспоминания Серафимы Демьяновны Дроздовой (1927г) жительницы с. Лукиново.
У нас конь один в войну остауся. В Федоровщину – то поехали по сено. А бессенница, война – то! Но мы с подружкой сено зиму возили на нём. Теперь она один раз на бочок наложила сено – то, его чуть раскатик…Я говорила, что: - давай её перекладём лучче.
Она гыт:
- Да ну! Да ничё, увязём. Перекладывать опеть…
А ночь уж, тёмно. Ну, поехали. Чуть – чуть раскатик – его – раз! Туда на бок, в сторону. Конь устал уже, не могли доехать до дому. Конь устал и лёг на дорогу. И кого же?! А тут ночь, холод, мороз, ноги мёрзнут, сами мёрзнем. Но и кого. Сено – то теребили да жгли на дороге. Но и чё?! Конь отдохнул, покормили мы его тут это, этого коня, из рук кормили, потом это, отдохнул конь, встал, пошевелили его – встал, но доехали.
Ну и нас засекли. Правление – то что малой у нас воз – то этот, жгли. Ну, чё? Нас – в правленне с подружкой этой вот.
Лучше бы вы сами – дескать, - пропали, чем сено сожгли…
Ой, а мы чё?! Моучим. Кого мы будем говорить – то? Ой-ой-ой! Как мы хватили горюшка, чуть сами не замёрзли. Вишь, как раньше за сено боролись?! Бессенница же была!
(Бессеница. Отсутствие или недостаток сена)
Воспоминания Евдокии Александровны Винокуровой (1920г.р.) жительницы д. Кайдакан.
В орешник ходила. Война была. Мы с дедкой ходили. У нас дедка хороший был! Дроздов Петрован Елизарович. Ну, нас много там ходило – то. В дождь поедем!
Орешник назывался Болонник, это в Тимошиной. Хороший орешник был. Там зимовья были, два, однако. Много народу было. Мы поехали – дождь как раз! Подъехали: ну, вроде обыгало, ничё. Ну, мы с дедкой кого? Он же старенький был. А я кого? Увидела большой этот колот или кого, не знаю. Все убяжали: эти деляны свои тама-ка да всё это бить. А мы возле зимовья с нём. Он же длинный, шест – то, длинный колот. Он его поднял, я его поддела – дедка мой улятеу, я упала. Ой-ой-ой! Вот и стар и мал. Дедка промахнулся, его под штанину зацепило! Ну, мы чистых орех набили два куля.
Я таскала помаленьку. А там ещё надо их это, тереть, обрабатывать там надо, шишки – то эти. (Болонник. Название местности в районе)
Воспоминания Анны Ефимовны Аксаментовой (1932г.р.), жительницы с. Тутура
Кровью доится. Вот одна титька там – раз – кровью: заболела. Ну, я не знаю, отнимают или уж как. Как кровь появится, но её же ить не будешь доить, её же сдаивашь. Я когда доярила, я много доярила – то в колхозе, мы же доили – то рукам. Я восемнадцать коров, это надо утром… и не то что старые, первотёлки были. Я ешшо живушая была. Но. Живучая. Вот пять лет одна жила, в Головновке – то доярила – ни к куренью, ни к питью не научилася, никак это ничё. Мы знали только работу. И спать – то утром – то нам некогда было: встаёшь в четыре утра, в пятом на ферме должны мы быть. Там в обед придёшь, дак нам ешшо по десять кубометров давали, чтоб дров напилить, ну, из колхозу. Я же жила при литовцах,мы… Мариткой звали, мы с ей пилили.
А тогда землю – то вот, вот наша семья, нам дадут вот восемдесят соток там на покос. Мы две коровы держали. А кормить – то… Там картошки, она тоже всяко родилась, и портилась. Ивсё. Кормить – то чем было? Ну, там обрат сколь. А тут сдаёшь поставку: по восемь килограмм надо сдать, сорок шесть килоррамм надо мяса сдать, телёнка отдать. Мы тяжело жили… Раньше народ какой – то живушшой был.
(Живушой – живучий, выносливый)
Воспоминания Ларисы Георгиевны Коношановой (1930г.р.), жительницы с. Коношаново
У нас дедушка Иван был, дак он всегда жоркий был, всё подряд ел…Наголодался в войну –то. Спать не мог. Он же в войну попал в плен. А в плену – то, рассказывал, издевалися. Не знаю, говорит, как и выжил. Но с войны – то приехал, сколь то он ешшо прожил, потом умер.
А в плену – то мы, гыт, попали в такое место, где – то много было свиней. Свиней, говорит, держали, кормили корыты больши. И вот, говорит… А кормили – то немки, женщины – то, посменно. И вот, гыт, одна смена была, эти пленные, гыт, высмотрят, что свиньям пойло таскают, оне, гыт, подкрадываются, свиней, гыт, отгоняют и ладошками с корыта едят. А вторая, гыт, смена немцев женска была, она, гыт, так с бичом и ходила, шшалкала. Она, гыт, не разбирала, голова, туша ли, ноги ли, била напроголу. А те – то хороши были. Пойло, гыт, нальют в корыто, а свиней, гыт, не выпускали. Хоть что – то. Ну, чё они, немки, по - немски говорили, помаячат, показывают, что вы скорее – скорее бегите, ешьте это пойло – то, нам, мол, надо выпускать свиней. А то ведь их скараулят – то - им тоже попадёт. Вот, гыт, за счет вот пойла – то этого и выжили, говорит. Даже вот, говорит, на помойке кака крыса бежит, её, гыт, поймашь, говорит, шкуру сбросишь, и мясо, гыт, сырком съедали, чтоб токо чё поисти. Ну а какой он будет человек, здоровый, чё ли?
Один раз, гыт, над нам издевались. А он высокий был мужчина. Сделали, гыт, как гроб, яшшик, и говорит: - Вот ложись в него.
Я, гыт, посмотрел: - У меня,- гыт,- коленки – то не войдут.
Он говорит: - Как хошь вмещайся!
И крышкой закрывали. Ну, чё там, говорит, коленки так сюда. Закроет на сколь – то минут наглухо, глухой яшшик – то. Кто, гыт, выдерживали, а кто – то, гыт, задыхались там, умирали в этом яшшике. Вот как издевались!
Тоже дояркам были, вот на пашне жили, он караульным был, у водяника скота караулил, чтоб скот в поля не попадал. А днём –то чё, мы подоим днём, отдыхали немного, а он придёт, или мы к ему там в этот шалаш идём, вот он нам начинат… Сам вот плачет, слёзы руьём бегут. – Ой, девки, - плачет, говорит, - я больше не могу рассказывать – гыт.
Вот так рассказывал он нам всё. Ёш твою мать – вот это токо по – матерски ругался. И вот никогда, чтоб он зарявел на ребятишек, или вот, как вчера вам Николай Павлович рассказывал, его отец бил да мать забил, - у него этого не было. Эти старики, они даже не… Вот как она это таскалась у этого дедушки Николая. Тому бы мужику – он бы её живьём затыкал бы, заклевал. А он: - Ну а чё? Ёш твою мать – все его слова были.
Я один раз к им прихожу, ну, эта Лилька была (ровесники мы, всю дорогу она к нам, мы к ей бегали). А вот этот пацан, счас Юрка – то, он маленький был, ну и кого-то напроказничал. Он говорит: - Я счас тебя накажу!
Взял полотенце (эти кухонны холщевы) ну и полотенцем – то. А он курил трубку, и трубка – то у него из зубов вылетела и улетела в сельницу на стол. А потом эта баушка Марья – то пришла и говорит:
-Кого это вы ползаете? – Ишшем, - мы говорим, - дедушка Николай потерял трубку. Она пришла на кухню – то, в сельницу заглянула: - Ишшете? – она говорит.- Вот в сельнице в муке лежит. Вот битьё – то было полотенцем. Что оно полотенцем? Убил, что ли? Так себе шлепнул.
(Жоркий. Имеющий хороший аппетит. Способный очень много есть)
Воспоминания Натальи Степановны Томшиной (1902 г.р.), жительницы с. Коношаново)
К концу войны оперовали чуток. Я конюшила зимой. Через пятидневку нам хлеба понемногу давали. Или зерном, или мукой. Хоть с откусом, но всё равно, давай сюда. Зерном, дак мы на круподёрке взмелем да кашей варим. А мукой, дак бурдучокзаварим. Там картошка, там капуста. Забурдучим. Вот ить как жили – то. А хлеб – то! Его куска, доча, не было. (Забурдучить. Заправить мукой жидкую пищу)
Воспоминание Зинаиды Яковлевны Винокуровой (1929г.р.), жительницы с. Знаменка
Голодовка была. Здесь одни женщины остались, ребята, старики… Мне в сорок втором году весной комбайн дали. Вон у меня отрезанный палец. У меня восемьдесят шесть гектаров скошено, сжато было. Дали нам (ой, красота!), дали нам эти сапожки, комбинезоны дали, да такие, ой хорошо! А комбайны – они же не самоходные были. Тракториствка тоже, вот она… Я говорила, Клава Моисеева, она у меня была трактористкой, она меня таскала…
И вот один – то раз идём мы по жнивью. А такая красивая пшеница, ровная, большая! Жнём, а там ножи – то…а там комок попал. И вот такая полоска, как несжатая, хлеб остаётся. А я дала сигнал, что ты остановись, надо выбросить это, а ножи – то не выключила. Одной рукой так вот держусь, а второй – то этот начала этот комок – то сбрасывать. И мне вот так вот отрезало здесь, до косточки прямо. (Жнивьё)
Воспоминания старожилов с. Рудовка:
В начале войны выдавали одну печатку хозяйственного мыла в 3 месяца, потом совсем перестали давать. Поэтому и мылись, и стирали «щёлоком» - водным настоем золы.
Труд детей был очень тяжёлый, скидок на возраст не было. Полуголодные подростки на лошадях пахали и боронили землю, вязали снопы, скирдовали, молотили зерно. Особенно трудной была заготовка дров: дрова пилили в лесу ручной пилой, затем кололи и складывали в поленницы. Устанавливалась норма 4 куба за день. За выполнение нормы выдавали 400 граммов печёного хлеба. А ведь ещё нужно было и себе дров заготовить. Не всегда лошадь давали, чтобы дрова вывезти. Тогда вывозили их на самодельных саночках. Работали и на ферме: растили свиней и коров, доили, перерабатывали молоко в масло и отправляли на фронт. Летом сами доярки заготовляли сено для коров.
Вместе с родителями дети готовили посылки на фронт: вязали трёхпалые варежки, носки, сушили картошку, сушили сухари, выращивали табак, шили кисеты, писали письма бойцам.
Несмотря на войну во всех даже самых маленьких деревнях продолжали работать школы, где голодные учителя учили голодных детей. Дрова для школ заготовляли родители вместе с учениками, вывозил сельский совет на лошадях. Тетрадей почти нигде не было. Писали дети перьевыми ручками на разных листочках, газетках чернилами или сажей. Во многих школах выдавались грифельные тетради чёрного цвета, писали на них специальным карандашом, после проверки стирали задание тряпкой. Рудых Кларе Васильевне запомнилось, как первого сентября 1941 года каждому ученику выдали по половиночке тетради и по одному цветному карандашу. Изучали «Родную речь», «Арифметику», «Чистописание», «Естествознание», «Географию». В перемену в школе грели кипяток и пили его, чтобы заглушить чувство голода и согреться. Учителя были строгие и добрые одновременно. Чаще всего это были девушки или молодые женщины. И жили они, как правило в школе, где была предусмотрена жилая комната. Не все дети могли ходить в школу, потому что нечего было одеть, обуть. Летом и осенью ходили босиком, зимой делали сами себе «обутку» из шины (резины). Самым бедным в школе выдавали обувь – «колодки», похожие на ботинки: на деревянной подошве прибит брезент со шнурочками. Одежду шили мамы из взрослых поношенных вещей или из кулей: юбки, платья, брюки, рубашки.
В годы войны и дети, и взрослые умирали не только от голода, но и от болезней. Болели педикулёзом, тифом, золотухой, свинкой, коклюшем, корью, скарлатиной и другими болезнями. Медикаментов не было, поэтому лечились только народными средствами.
Трудности тыла, неутешительные вести с фронта (приходили похоронки) не сломили силу духа, и дети всё-таки оставались детьми. Школьники готовили концерты и выступали с ними перед взрослыми. Любимым праздником оставался Новый год. Наряжали ёлку самодельными игрушками и даже готовили костюмы. Дети оставались детьми и в любимых играх.
Охота. Звероловство. Рыбалка
Воспоминания Александра Александровича Чертовских (1932г.р.) жителя с. Чикан
«…В Суровой мы в акспедиции жили, я рабочим там у них был, бурили. Соберемся вечером в баню, там люди хорошие, баню нам топили. В зимовье жили. Ну и вечером сидим апосля бани - то, а там дед был, вот он нам все рассказывал, всяко. Суровский дед. Говорит, медведя добыли, медвежонка поймали. А он такой, старикашка-то, небольшой такой, сухощавый. Ну и к поняге, говорит, этого медвежонка-то привязали, чтобы нести домой-то. Лапами туда наружу, а спиной к поняге, и веревкой примотали… Ну и, говорит, понес я его. Иду, иду, говорит, устал. К листвене присел отдохнуть - то… а медвежонок-то, говорит, за листвень - то поймался и раз - раз – меня, говорит, заташшил на полдерева…»
(Акспедиция - экспедиция)
Воспоминания Петра Ивановича Новопашина (1924г.р.) жителя с. Лукиново.
«… Алексей-то, брат-то, он в Аленкане промышлял. Там место зверисто. Хребет и падь така. Мы там всё охотимся. И зимовье там. Хорошее место. Он с сыном промышлял, с Анатолием. Он ешшо живой быу тогда. Они пошли следить медведя, он из берлога ушёл, след следом оне пошли. А потом наследили. Медведь-то берлог-то выкопал, а постель -то там ешшо не настлал. Но ляжал в берлоге, не заткнулся еще. Затычка рядом лежит. Ну и стал караулить. Полезет, я, гыт, стрелюю. А сыну сказал: - Иди, затычки наруби залом делать. Поближе нету лесу крупного. Там скальник, в Аленкане. Лес-то подале. Ну, он ушёу, нарубиу сколь-то, подтаскал стяжки. А он потом побоялся, сыну-то не доверят устье заткнуть и стрелять. Молодой же он был.
Но и потом, значит, взяу в одну руку ружьё, а второй-то рукой давай стяжки затыкать. Раз, два, три стяжка заткнул, а медведь оттуль как, паря, выскочил! Всё! Он бросил стяжок и за ружьё. И хлесь его стрелиу. А он (медведь), разворачиватся и сразу на него обратно. Ну и он в имки его и давай купержить, за спину поймау, укусиу его за боковину! А потом бросиу его и сразу на сына. А тому за мягко место, сыну Анатолию, поймау и все так вырвау, паря.
А потом чё? Бросиу его, побежау. Алексей, брат-то, опеть за ружье. Медведь ружье-то вышиб… А он (Алексей) ружье потом схватиу, зарядиу и вдогонку стрелиу. Но ушел.
Но а таперь кого делать? Сын-то идти не может. Но он все-таки не остауся здесь. Он хотел, Алексей-то, оставить его да идти по коня домой. Оне лопоть-то, тельно белье
сняли да завязали. Ну, а потом пять километрох осталось до дому-то, он говорит: -Ты останься, - огнишше запалиу да всё.- А я,- говорит,- схожу по коня да за тобой приеду.
Но вот. А он рамно у костра не сидеу. Пошел все рамно за нем потихоньки. Насколь он не дошёу, Алексей-то встретиу потом. За Ярком было уж. Бояуся остаться-то, наверное. Ну, дак потом чё? В больницу его… но и там залячили…»
(Аленкан. Название местности)
Воспоминания Марии Иннокентьевны Власовой (1922г.р.) жительницы с. Рудовка
«… А потом одна женска пошла в лес. Ну и это, хожу - хожу, гыт, одна. Беру, гыт, ягоду, беру, голубики много, я, говрит, алунки у меня, быстро с имя. Беру… Он (медведь) ходит. Это где-то тут недалеко. Потом, гыт, я подошла в вид-то:- А-а-а-а
И вот так лапам, лапой, лапой, гыт, манит-манит меня. Я, гыт, чуть со страху-то! Манит, дескать, я-то думаю, он приманит да меня тут съест. Раздавит. Манил- манил, он одно что:- А-а-а-!
Рот показыват. Я, гыт, ближе, ближе, ближе подошла, изо рта - то кость - то выташшила. Кость-то выташшила, и, гыт, он это, на лапы всплыл, отряхнулся и все. И ушел. Кость из горла выташшила. Подавился костью. Ну, гыт, я ни жива ни мертва, гыт, И он - А-а-а-а!
Не может ничё… И лапой, лапой, гыт манит-манит. Вот так вот. Из Балахни женщина…»
(Алунки. Берестяная посуда)
Воспоминания Алексея Ивановича Новопашина (1920 г.р.), жителя с. Лукиново
Христофоровские-то доржали медвежонка. Доржали в избе прямо. А он такой игручий быу, баба полы моет, вымыт, а он одёжу возьмет да намочит. Полы вымыт хозяйка кода, он грезит, всё повытасковат да по полу буровит, таскат. Дак он у их, зиму держали в избе. На Масленицу посадят в кошеву, и он, девка, встанет на дыбки, пляшет. Бабу сделали из снега, угли заместо глаз посадили, ведро на голову, он и зарявел, сшиб, поускорочил всю. Вот жиу. И зиму, и лето. Летом – то ему тяжело. Да и запах – то от его. Он потом давай берлог копать, уже когда ложиться ему. Зверь! (Баба - снежная баба)
Воспоминания Александра Петровича Бузикова(1912г.р.) жителя с.Усть- Илга.
Ну, вот такой случай был. Это недавно было. Мы на острову тут, по Илге –то… Ну, вечером тут, ужнали, кто чем занимался. Уже сумерки стало. А через протоку – то, я чё – то смотрю: сидит человек. Я говорю:
- Дак ты чё там? Иди, мы перевезем. Чё сидишь – то там?
А он встал на четвереньки и пошёл, там брод повыше – то, на остров туда. К нам на остров и побрёл. Ну, чё: у нас ни ружья, ничё нету. Давай кричать, давай в ведро бить.
Он вернулся, посидел – посидел и опять побрёл сюда, на остров к нам. Мы тут сильнее заорали. Саня побежал, мотор завёл у «Вихря», сгрёб литовку. Обороняться, дескать, как – то. Ети как заорут…, в балагушечек забежали, и давай в котлы бить. Котлы тут, рёв подняли! Ну, он до половины токо добрёл и опеть вернулся. Вернулся, и так пошёл, и пошёл вверьх туда – и ушёл. Он не к нам шёл… А вверху – то, на изготови острова, там была сохатого голова, и ноги отрезаны. Кто – то сохатого убил. Кишки. Вот он там уже, наить, когда – то был и потом ешшо раз пошёл. А мы – то ему и не нужны. Токо мы ему помешали туда. Он туда и шёл, на изголовь на эту. А вышел – то тут ниже нас, потом туда ушёл повыше и там побрел. Не где попало, знает брод. (Балагушечек или Балагушек)
Воспоминания Тихона Ильича Аксаментова (1921 г.р.), жителя д. Кайдакан
Как оне? Правая Басьма, средняя Басьма и левая Басьма. А все оне сходятся, это называется сбега, на сбегах. Это от Берёзового хрепта все оне берутся… Вот все эти речки, три Басьмы, оне в одно место сбегаются. Все три в одно место, в эту, в Басьму, да. В однем месте оне сбегаются, в одно русло и впадают в Илгу. А далёко, это аж к Илиму. От Илима, вот хребёт- то Берёзовый идёт, вот этот, и подымесся на хребёт – то на спину, он длинный такой, тянется на север туды. И далёко это, ну, видать с хребта – то…
У меня брат мой двоюродный. Он так рассказывал. В тайгу пошёл один на Басьму, там у него зимовейка была. Они сиротам осталися трое. Тятя их подымал мой. И вот он в тайгу пошёл. Приехал. Балалайка там, зимовьё вот это, печечка – всё. Пельмени наморожены, всё там, ну, сколько там. Вот теперь я, говорит, это, на балалайке играю и слышу, гыт, в сенках:
-Во - ха-ха, во ха- ха, во – ха-ха! Играй! Играй!
И говорят: - Играй!
Я, говорит. Играю, играю. Ну, мне, гыт, уж пальцы больно, я, говорит, всё играю. А оне там пляшут. Я, говорит, играю – играю, а оне пляшут.
А потом, гыт, мне, гыт, жутко стало, я перестал. Ну и я, гыт, вышел: накого нету. Но, говорит, мне страшно, давай молитвы читать, и всё. И гыт:
-Приходи завтра на круг.
На круг… Он пошёл, он и белку, он и соболя убил, он чёт око надобывал! Он неделю пока был (люди месяцами живут, того не добывают), а потом приехал – то домой и говорят:
- Это Котька чё – то знат, Котька чё – то знат!
Вот ихный, мой брат, а ихный отец, а он ничё, сироты росли. Мать, оне маленьки, ему четыре года было, он маму мою мамой звал, четыре годика, где, откуда он будет. А мама моя вовсе, даже чирей не умела заговорить.
А «на круг» - это вроде поляна, там какая где, где охотются. Туда охотиться, видимо приглашали. Бегать за козами. (Басьма. Название реки, протекающей по территории Жигаловского района)
Воспоминания Георгия Дмитриевича Машукова (1920 г.р.), жителя с. Знаменка
Я встречался с медведем. На охоте встречался, в армии. Вот. С другом бегали за козами. Мы же служили на Востоке, вот. Жили на своём пропитании, можно сказать коз добывали, бегали. Он березником шёл, а я выбежал на луговину. Медведь кочку роет. А у меня два патрона всего осталося карабина. Я метров на двести пятьдесят, наверно, шшолкнул, он поворачиватся и – ко мне. Больше нечего, я один патрон запихнул, значит, уже наготове. Один. Сработала мозга: счас подскочит, я прямо в рот суну ствол и спушшу, стрелюю. Товаришш выскочил, значить, стрелил его, не добежал до меня, закрутился, добили. (Бегать за козами. Охотиться на диких коз)
Воспоминания Иннокентия Петровича Стрелова (1926г.р.), жителя с. Тутура
Ну, вот раньше как говорели, что снег до Покрова вываливат и за неделю после Покрова. А щас Покров уж кода прошел? Давно. И снегу нету. И белка чёрна. Она щас Покров уж кода прошел? Давно. И снегу нету. И белка чёрна. Она же не выходилась. Морозов – то нету, и снегу нету. А раньше бывало, что я в тайгу – то уходил. В зимовьё – то придешь – белка – то уже выходная. Там же редко попадет с чернотой. Ну, неделю проходил за неделю после Покрова, смотришь: она вся белая. (Белка выходная)
Воспоминания Надежды Павловны Машуковой (1921г.р.), жительницы д. Захарово
Рыбы – то был много раньше. И плавежом ловили, на швырах, растягивашь сеть, один – с одной стороны, другой – с другой, брядут, да и всё. Швыры? Ну, быстро когда, течение быстро. Она швырит так… На швырах. Бродком – бродком ловили. Бредёшь – бредёшь, потом там сбродишься. А там сеть разбрасывают, один с одной стороны идёт, другой – к другому берегу. Идем – идём, потом где помельче станет, тут мы сходимся.
Сеть – то выбираешь, собирашь, и он собират, и я собираю. И рыба, какая остается, она вся в сете. Вытаскывам – то на берег, обирам это всё, вытаскывам эту рыбку – и дальше.
Хайрюз, всяка тоже рыба попадала. Елец и хайрюзы. Хайрюз, беляки. А беляк – это молодой ленок. Сразу беляк называтся, меньше вроде, потом он ленок становится. Ленков много было. Ленок уже большой. Сейчас мало стало.
Воспоминания Николая Ильича Пуляевского (1924г.) жителя с. Петрово
Заезки делали. Начинают от берега, а здесь морда. Морду поставят, а там ешшо тоже вроде бердо. Бердо – то, чтоб вода – то пробегала, а рыба – то чтоб не проходила мимо, в морду забегала. Ну а морда, её с талины делали. Вот где - то в июне месяце она подрастет, её срезают, прут – то, и делают эту морду.
Прямо на Лене береговушки делали, береговые заезки. Где вот быстер или где, но рыбак знат, где ход рыбы. Поглубже. Вот она идет поглубже и заходит, уткнется здесь в бедро, а потом идет, ишшет, завязнет в морде, и всё.
Добывали хорошо. Вот по Илге ставитли много, потом по Тутуре ставили эти заезки. Токо там мелкий налим был. А здесь по Лене крупный. (Белячок. Беляк. Молодой ленок. Хариус)
Воспоминания Александра Ивановича Чертовских (1932г.р.) жителя с. Чикан
Рыбачил раньше – то. Морды – то делали из прутьех, с талинника. Мы сами плели, делали заезки. Вот так наколотишь колля плотняком, и чтоб морду поставить в середине. Вот и всё. Зимой черезовики делали черезо всю реку. Я – то бережники делал сам, заезки к берегу выводил. Метра два в реку – то туда. Морду поставишь. Заезки с берега – это бережники. Ну, заездок. Бережник ли, заездок. Это летом делали.
А где неглубоко, делали черезовики. По Тутуре делали. Закоски ломали раньше.
Наставишь сети, а потом ломашь. А рыба вместе со льдиной уходит, идёт – и в сети. Льдина уплыват, а рыба – то в сети. Попадались сиг, таймень, ленок, хайруз.
Воспоминания Георгия Петровича Жукова (1928г.р.) жителя д. Константиновка.
Я с детства ходил охотиуся. Ружья, собаки. Белку добудешь, горнока, а который раз придешь совсем пусто. Сначала возле дома всё ходиу, а потом уже за километров восемьдесят на Березовый хребёт, вот туда. А ходил большинство всё на Тилик, речка Тилик, она в Илгу впадат тут, примерно тридцать или сорок километров пониже. Там богатая тайга.
Берёзовый хребет километров сто, наверно, длиной. Я слышал от стариков, он самый длинный хребёт, он делит Ангару и Лену, речки, - водораздельный хребёт. С Березового хрепта туда – то вода бежит, в Ангару – то, а с другого склона бежит Лена – река.
Дак мы друг ко дружке ходим в гости, когда на охоте – то: ангарские мужики к нам приходят, мы к ним. Вот сейчас ребяты ходят. Вот у меня там три зимовья, на Тилике в Берёзовом хрепту, дак ангарские мужики сюды приходят ночевать который раз, с Ангары – то. И мы который раз к имям приходим, ленские, с Лены. У нас растояние, может километр через Берёзовый хребет. Мне приходилось ночевать. Оне у меня ночевали… (Березовый хребёт. Горный массив между Ангарой и Леной)
Воспоминания Николая Прокопьевича Шипицына (1942г. р.) жителя с. Тимошино
Вот у нас здесь авенки – оне лесные люди, самы сильны охотники. Дак вот у них шары были вот такие с берёзовой губы. А берёзовая губа, она растёт на бярёзе, берёзовая губа, вот оне её срубают и в неё забивают крючки, оне острые такие. И вот он идёт прямо на него (медведя) с этим шаром и кидат ему – раз! А он же (медведь) всё на себя хватат, ну и как схватит, так лапы и просадит наскрозь. А разорвать то не может лапы – то! Больно. И вот в это время, его рогатиной добыват. Шар, так и называтся, шар с берёзовой губы, он с крючками. С бярёзы вырубят его, а кузнец там выкует крючья и туда забиват.
Взять в беремя. Обхват руками или лапами. В беремя поймать. Воспоминания Николая Прокопьевича Шипицына (1942г.) жителя с. Тимошино.
Ну, дак я добувал девять медведей, дак это я за всю жизнь стоко. Здесь я добывал, дак я не один добывал – то, втроём – вчетвером. Мы этих хорошо добували: просто придёшь. А то вот видишь, как там: который выскакнет – всё, может передавить всех. А тут ешшо был Василий этот, Степанов. Он струсил. Я говорю:
- Если ты боишься, не ходи. Не надо, не надо. Ты помешашь!
А тут как раз подскакнули мы, и оборки (ичиги), оборки – то развязались! Он в оборках –то запутался, и одна рука у него… Это знашь кто? Федора Канина брат, во – во! Как его? Спиридон. В-о-о-о! Он с одной рукой, у него левой или правой не было – то. И он тут упал! И на эту, ну, где руки нету. Встать не может, оборки развязались, в ичиг запутался. Вот здесь, на берлоге прямо!
А он как вылетит оттуда! Как его так лапой как хлобыстнет по голове – и взял в беремя. Ну,и тут давай мы его… Едва его отташшили. Он выскакнул. Боится людей, всё равно зверь боится. Убяжал медведь, ушел. (Берёзовая губа. Твердый нарост, образующийся на месте поврежденного участка берёзовой коры)
Воспоминания Кондрата Михайловича Чертовских (1915 г.р.) жителя с. Чикан.
У нас орешник по Берее там, речка Берея, но далёко. Мы туда всё ездили. Ну, вот ходишь на пару: один киём бьёт, ну, попеременке, а второй шишку собират. Зацепил деревину, к другой подходишь. Который раз хорошо идёт, хорошо валится – есть. Мы - то не брали большие – то кедры, но раньше, говорят, что брали.
Двухручный кий был на двух шестах. А потом мяли их на тёрке, тёрли и отбрасывали. Полотно повесят, и метрох на пять – на семь вот так вот отойдёшь, и так настелют полотно тоже, чтоб орех – то валился. А кожура – то, мы не бросали, спали на ём.
Самый хороший орех – самый далёкий. Вот по Берее – речке. А тут ближе – хуже, который возле тебя, дак тот – пустые оне.
И на паданку ходили тоже собирали, на Берею же ходили, туда. Ну, летом уж. Пары на первый раз вспашешь, по - черну пары – и на паданку. И вясной ходили. Дак туда на Берею – то ходили мы, на паданку. Ешшо местам – то снег лежал. На Берею – то, на берега навалилося… Лёд – то, больше метра накипи, идёшь.
Мы артельно ходили. Артелью сыпали. Там у нас на Берее – то, засеки стояли под орех- ссыпки. Два засека было. Один под чистый орех, другой под шишку. Чатыре на чатыре. Из брёвен. А высотой оне небольшие, метра на полтора. Закрывали желобником: деревину расколят желобами и закрывают. Шишку хранили там и орехи, чистые орехи. А потом вывозили зимой, после охоты. На конях увозили. Шишкой - то мало, чистым орехом – то всё больше. (Берея. Название реки)
Воспоминания Павла Иннокентьевича Рудых (1930г.р.) жителя с. Рудовка
В кедрач мы уходили в сентябре, двадцать пятого сентября. Как рожь поспеет, и орех готовый. Он же озимой тоже. Как рожь озимая, так и орех. Котомку на плечи – и впяред. Отсюда двадцать пять километров по речке Берее. Там много ореха. Били до самого снега. А потом уж паданка пойдёт. Табором ходили, били, потом делят готовое. Туда тропа, на конях ездили. И вывозили вьючно. Старики – то жили там до снегу, пока оне измолотят этот орех.
Тёрли вальком и тёркой. Рубцы наделашь, вот у меня на плашшине прямо. Хлоп её, расёр, да и всё. Пять кулей за два часа. Я один. Куль чистого. Пять кулей шишек – куль чистого выходит. По Берее – то, там богатый орешник. Там стойбо до сих пор стоит. Там одному – то никак, надо вдвоём. Один собират, один колотит. Или вдвоём собирать, если шишки много.
И артелью ездили вот. По тринадцать было. Там разделяются по два человека, и каждый бьёт, один таскат; один бьёт, один таскат. Целы кучи натаскаешь, а потом откидывашь. Натягивашь брезент – и лопатой! Орех лятит, а мякина остаётся. Ну, решётная называют, если вот такого нету: ни машинки нету, откидывать не на чё – называют решётная. Ряшетом просеял, всё, в куль складывают, и всё. Орех решётный, он с мякиной. Потому что мелка мякина, она же вся проваливатся же с орехом. А вот эта шелуха крупная – её выкитывашь. Когда он с мякиной, это решётный. А кода уж откидный – там чистенький, это чистый орех. Откинешь весь и в ссыпку ссыпаешь. А потом делёж идет…
Воспоминания Алексанндра Александровича Чертовских (1932г) жителя с. Чикан
А медведь, он же берлог – то свой в отбойных местах делат, где чашша непролезимая. И в ручьях делат, но только не в низу ручья, а сделат в самой вершине. И тоже там, где чашша непролазимая.
Он делат не под сиверную сторону, где весной снег лежит, долго не тает, а где солнышком грет, он там и выбирет. Или деревина такая, может две, роет под неё, как лопаткой, всё дочиста, чело небольшое делат, чтобы можно было втугую пролезть туда. А внутри – то берлога он там настилает пихту, ветки, мох натаскат сухой. Таскат он далёко. Я в однем месте натыкался, где он ходит, с километр, наверное, таскат, собират сухой этот мох и стелет. А ложится под мороз, лягет и пробкой замкнется, он делат пробку из моха, крутит её, крутит в комок. По теплу он лежит – у него устье открыто. А как мороз – затыкат.
А из берлога – то он, кода роет его, он вот эти камни возьмет, земля, всё – их нету берлога близко. Всё, что накопал, он утаскиват: и землю, и камни – метров, навернр, на сто, всю рассеиват, чтобы ничего подозрительного не было. Никто так не рассеит, как медведь. (Берлог – берлога)
Воспоминания Геннадия Ильича Аксаментова (1931г.р.) жителя с. Тутура.
Мы в орешнике были. Токо я для чего поставил две петли? Чтоб он табор мой не растербанил. А там их двое было, здоровые такие медведи. Мы уйдём в зимовьё, а оне у нас всё растерзают, все орехи растербанит. Мы же сорок минут идём, а ночевать в зимовье идём. От зимовья опеть сорок минут идём до стойбишша. А тут они задрали где – то, видать, быка, сохатого. А сохатый – то им тоже сильно не поддастся. Это какой- то больной, видно, что не мог от них отбиться, и он тут его…
Мы когда приехали в сентябре добывать орехи, и я возьми и думаю: «Поставлю две петельки». Ёлки, там ёлки старые были. И сделал проходчики.. Ёлки старые – то это положил так вот и два проходчика в таком месте, чтобы можно петельку к дереву привязать. Низенький, и заложил, а он же будет подпрыгивать, ему же высматривать надо, и вот в дырочку эту, и всё, и залез.
А куда он денется? Он же беспутый. Так и сохатый. Поставишь – всё равно попадет. Токо, если ты петлю поставил, то смотреть надо, чтобы медведь к душе был, а гноить – то не надо. Тогда зачем? Тогда не ставь. (Беспутый. Бестолковый, несообразительный, глупый)
Воспоминания Тамары Геннадьевны Сек (1936г.р.) жительницы с. Тутура
Вот снег кода тает, он в озеро скатыватся. Эти озёра, они идут друг за другом, от Тутуры и до Чикана. И вот старики делалаи канавы. И вся снеговая вода, дождевая вода, стёки все – это всё стекало вот в эти канавы. И когда лёд проходил,вода же большая поднималась, и рыба заходила на бой в озёра, ну, икру метать. Рыбы было много. Рыба – то почему не гибла? Она заходила, там метала икру, оттуда они выходили. Уже рыбки выходили оттуда. Раньше, знашь, сколько было гальянов? Счас же их нет! (Бой. Икромёт)
Воспоминания Геннадия Ильича Аксаментова (1931г.р.) жителя с. Тутура.
Хлюпать боткой – ботаешь - ботаешь. Или хлюпашь, или ботаешь. Это по – нашему. Боткой идём, вот два, три, четыре сетки я взял, ельцовки, и пошёл вверх. Раз!- их поставил вот здесь прямо, токо сошёл поперёк – раз, раз! – заплыл метров десять, ботнул, об дно так похлюпал боткой, стукнул, и всё, и приплывашь. Раз! – сразу первую выбирашь, попали. Опять выбрал, опять дальше. Откудова начал ботать, там ставишь, выше, выше, так идёшь боткой.
Я раз по Чикану ходил и ельцов за день три мешка наловил. Там Чикан – приток Тутуры, по Чикану ходил. У Тутуры много боковых речек, оне все рыбисты. Вот здесь сразу пойдёт, маленьки речки: там Чингилей – речка, она километров, наверное двадцать, Бурунга – так же, наверное, Чикан – это километров с то с лишним речка; Келора, Юкта,потом Бадер – это тоже в Тутуру впадает, Монка, а туда выше, не знаю, они все попадают в Тутуру, вот здесь. Рыба – то вся мимо Тутуры и по Лене, вверх по лене туда двести с лишним километров, вся она проходит мимо и вниз всплыват и вверх всплыват. Пожалуйста! Не надо никуда, дома лови – всегда накушаешься. ( Ботка. Бот. Бота. Ботало. Буркало)
Воспоминания Валентины Александровны Черепановой жительницы с. Коношаново.
Это в шестьдесят восьмом году было, бродень – то напал на моего мужа. Он в тот день шёл с партийного собрания, он шофёром работал – то. День был суббота, но бежит он, рявёт:
-Медведь корох давит!
Он машину завёл и туда поехал на луга – то, под взвоз. Телята в воде стоят, тут рыбаки плывут. Он фарам – то посвятил, а он медведь – то надо быть в кустах схоронился. Поехали обратно. Мы с мамой в бане помылися, пошли да сеи ужнать. Тут сосед пришёл Василей Гаврилович Винокуров, но сели оне после бани выпили. А я была беременна Алексеем – то. Но мы и поужнали, я давай со стола убирать, муж мой Владимир Ефимович Черепанов – то проводил мужикох – то за ворота, прибегат и схватыват ружьё. – Ты куда?
-Медведь корох давит, бродень.
И вот он убежал. И нету его и нету. Я со стола убрала, в куски рвуся! Ой! Где он! Выйду на улицу – темнота! Ну куда я пойду! Была бы ешшо проста, а то с кузовом. Алёхой в положенни была. Теперь Санька Хмелевской, кричит: - Собак отвязывай!
Ой! Я их отвязать не могу, сбегала ножик приташшила, ошейники перерезала имям – он идёт, Володя – то. Идёт. Я теперь заругалась: Ты где ходишь – то? Ушёл – ушёл. А я – говорю,- тут с ума схожу. Ну, чё молчишь – то?
Моучит. Поднялся на крыльцо, на барьер – то вот так наклонился и стоит. Я ругаюсь, иду. А потом, кода зашла, лампочка горит: ох ти, мнеченьки! У него голова – то вся ободрана. Кровишша льёт! Он стоит, кров – то бежит. Ухо одно оторвано было, голова вся ободрана. - Ой! Тебя ктоэто?
Он говорит: Медведь! И махнул рукой, ничё боле не говорит. Ну чё?! Надо машину заводить. А он взял да воду - то слил с машины с вечера. Тут надо везти в больницу. Ой, бегали! Мама моя таскат воду, налиёт в радиатор. Я говорю:
- Дак, мама он бежит, надо краник закрыть. Ивот ить ране то сколь раз отвёртывала, а счас найти его не могу. Испугалась, надо быть, не могу.
А мама сказыват: - Может, сам заткнётся – говорит.
Вот теперь и смех и горе…ага, и слёзы. Плачем тоже обои с ней.
Потом Гоша Басов прибежал, завернул краник – то, мама натаскала воды, и вот потихоньки, пешком почти что, Санька Хмелевской вёз. Привезли. Но спасибо Зине – то, она зашила ему.
А он потом рассказыват. Я, говорит, прибежал – бродень – то бежит сюда, к нам в огороды (а в огородах – коровы наши ходили). И собаки наши – то бежали, а он говорит, мне надо было стрелить по разности, а он сразу дуплетом, и вот он медведя только скользом поранил. И он тут вот, говорит, давай я переменять патрон – то и бегу, говорит за ём, за медведем - то. А он вернулся – да на него. И ружье – то отбросил и давай его корябать! А Володя всё прятал, прятал голову – то. Вспомню, говорит про ножик, ножик – то (а свинню как раз в этот день били, он ножик – то пришёл и на полку положил), в ножнах ножика - то нету! При ём нету! Ну, всё, говорит, думаю: «Но ребятишки если мои счастливые, останусь всё равно живой».
Потом, говорит, вспомнил, что надо руку пихать в рот. И вот руку запихал в пасть ему и вертел там, сколь есть мочи, язык там. Потом, гыт, слышу, гыт, как жаром обожгло голову – то. Он ему голову – то ободрал лапой, а потом, говорит, свалился с меня. Я давай – гыт, вытасковать руку – то изо рта – то, да клыком – то вот это вот всё выдрал, ладонь.
А побежала я ешшо в колхоз, председателю говорю:
-Свет погоняйте, Геннадий Михайлович!
Движок – то, чтоб свет – то был. Как она будет делать – то, фельдшерица – то? А у нас там токо до часу горел свет. Но и это, сделала она всё. Вот это осенью было. Вот это бродень был, шатался, в берлог не лёг. Медведя – то потом мужики убили. Привезли, он был худой- худой, а длиной вот такой, наверно метра три. У его голова от така большуча, а худа – худа.
Вот он его изорвал, бродень – то, шестьдесят восьмого года. А в шестьдесят девятом – то году он умер. Сердце хватило, и умер. Вот и отомстил. Он же охотник был, мужик – то мой, добыл сорок медведей. А нельзя. Сороковой – роковой. (Бродень. Медведь, не лёгший зимой в берлогу, шатун)
Воспоминания Григория Петровича Жучёва (1921г.р.) жителя д. Фомина.
У нас там урочишше было Бугульдей. У нас дед ездил туда зайцев добувал, там их было много. Оне вдвоём (Кирилл был, его по пятьдесят восьмой позже забрали), оне пятьсот штук добыли. А дед потом один шестьсот добыу. Пасти рубили. Дорога была, были пошевни. Они в пастях придавлены, не то что в петле, как попало, а там пирожком его к снегу прижмёт. Мама вот полны пошевни нагрузит, на лошади везёт. А дома наложат – наложат, а потом снимают их, оттаят. Растают, снимают и сдавали, и мясо принимали. (Бугульдей-название урочища в районе)
Воспоминания Александра Александровича Чертовских (1932г.р.) жителя с. Чикан
Медведей тут много было, добывали. Сейчас пятизарядное, а раньше турочки были, сверху заряжали. Раз! – и всё. Ладно, собаки хорошо медведя держат. А быват – раз! – он выскользнул, а собаки врассыпну. У меня так же было. Ну и чё, успели, по разу стрелили, и всё. Он не душевредный, он ещё живой, не до смерти, раненный только, вылетат из берлоги. Потом чё получатся? На кого он налетит? И всё. Бросают эти турочки свои и на рогатину. Он же обычно на дыбы встаёт. В это время человек, рысковые люди – то были, ставят, упирают скоре рогатину в землю под углом и сам под него, под это место ему рогатину ставят. В соколок, ну, под ложкой называют счас. Надо сюда ему угодить, в соколок. Угодишь, и он твой. Душевредный. Раненый (о диком звере, опасном для человека)
Воспоминания Григория Евсеевича Аксаментова (1928 г.р.) жителя д. Якимовка
Это по старине делали. Добудут медведя, и в пасть ему деревянный клин засавывают, пыж, по ранешному, и в рот забивают. А почему? Потому когда рогатиной его добудут, рогатиной его кольнут, может не конец ему еще, он же душевредный, может соскочить, полежит и соскочит. Видно для страховки.
Воспоминания Юрия Николаевича Шаманова (1938г.р.), жителя с. Коношаново.
Здесь вон было в Дядиной, студента медведь задавил, в Иркутск вертолётом вывезли. Давненько это было. Зимовьеё строили два брата.
Вот младший – гыт – пойду моху порву. Он ушел мох заготавливать, и в это время на него медведь напал. Тот брат – то давай кричать – нету. Пошёл с ружьём – то, его увидал, убил медведя, а брата – то нет, задавил. Пошёл в Дядину, позвонил, и вертолёт прилетел и… Да я видел его, в мешке везли. А забыл в каком году – то. (Дядино)
Воспоминания Марии Константиновны Рудых (1931г.р.), жительницы Жигалово.
Это когда было – то? На дядинского – то одного – то медведь напал? Прямо за огородом. Собаки залаяли за огородом, а он, по – видимому там ходил. Ну, пошёл, один пошёл – то, ни соседей не созвал, никого. Один и пошёл, только через огород – то перелез, и медведь его сразу сшиб и ружжо –то отбросил. Но он беззубый был. Но он руку и ногу нарушил ему, и лицо, ухо и всё оторвал. Но он это, ешшо колода лежала, брявно там. Он за брявно – то как поймался, он его не мог… А у него это, ножик был, он ножик – то выташшил из ножны – то. И в пасть. Язык, и вот это спасло. А б с зубам он был, он бы ему руку – то перекусил.
Но а потом он приполз когда домой – то, сказал, тут мужикам – то сказали, и они ружья схватили, побяжали с собаками. А ночь уже. Но и собаки – то нашли, и застрелили. А назавтра пришли утром – то оснимать – то, а зубов – то нету у него. Вот он и спасся из – за этого. (Дядино. Название населённого пункта)
Воспоминания Сергея Геннадьевича Аксаментова (1940г.р.), жителя с. Тутура.
Ежики еще варят, ёжики. Ну, как, прутья стальные варят, ну, в виде колобка, и кидают медведю. И он наступат на них. Наступит и обранится, но потома всё равно его сшибат. Его с крючком делают. Такой круглый, но такие стальные прутья, он лапой наступит и всё. Кидают к дверям. Их там не один делают, а несколько штук.
А у нас вот два года он ломал: то двери сначала вскрыл, мы сделали двери, всё, заложку хорошую. На другой год я пришёл туда, как раз перед орешником, прихожу, а дядя Коля приезжал, ну он тоже подгулял, двери открываю: такой бардак там, все чашки, всё это валяется по зимовью. А у нас две рамы, одна – то такая большенькая, медведь в окно залез, всё переломал. И мука и сода была питьевая, ну, перемешано всё. Зимовё закрыто. Которые, если в зимовье ничё нету, оставляют открытым, чтоб как не плеснело в нём ничё. А у нас как? Одёжа там, всё это, закрываем его. И вот воздух сырой попал, и плесенью всё покрылось. А сёгоды я уже в другое место ходил. А свояк ходил, я спрашиваю – Чё, гость – то был? Говорит: - Не было его. Все рамы целые. Может, и был, рядом –то, но не ломал ничё. (Ёжик. Приспособление в виде металлического шара с длинными шипами для добычи медведя во время берложной охоты)
Воспоминания Александра Петровича Бузикова (1920г.р.), жителя с. Усть – Илга
И случай такой рассказывал этот Костя, Рудых. Гыт, на Жаркове косил, ну и заехал, пригласил вот этого же Палеенкова: - Помогите мне утром косить, а я вам грести потом помогу. Ну, так договорились вечером. Я, гыт утром там у себя встал да пошёл косить. И в трёх метрах выскочила медвежица. И прямо на меня так подняла лапы. Я, гыт, так заорал, без ума. Ну, что делать? Рёв токо, и всё. Я с перепуга три дня не разговаривал. Ну что делать? Рёв токо, и всё.
И те подходят мужики – то: - Мы, - гыт, - что за рёв? - гыт, - гудки. Пароходы уже не ходят давно. Неужели гудок такой?
Так орал, Я, гыт, им пояснить ничё не могу, потому что не могу сказать: у меня голос осип. Надорвал. Ну, подошли когда, я давай маячить, где это вот получилось.
Пошли там смотреть, куда она ускочила – то. А с ней были два медвежонка, оказывается. Дак он перепугал этих медвежат – то, оне обосрались в ручейке. Они перепугались, а она тода, значит, кинулась тоже за ними, и ушли. Вот этим рёвом мы их отпугнули. (Жарков. Название сенокосного угодья возле с. Усть – Илга)
Воспоминания Елены Егоровны Дроздовой (1922г.р.), жительницы с. Тимошино
Я вот на рыбалке тоже была. Рыбаки вот раньше были, это уж потом, после войны уже, я с рыбакам ездила, рыбачили мы. Ну вот, после войны чё, вот рыбачили как на колхоз тоже. На колхоз, заготовку давали. Колхоз давал, «Рыбкоп» был, как в Жигаловой, так и у нас. И мы вот эту рыбу сдавали, у нас тут приёмшшик был, в Кайдакане. И мы возили, верховские оттуль, мы…Бочку две насолим и вязём сюды сдавать. Вот, сдавали эту рыбу.
Сетям ловили. И заезки делали, вот заезки городили. Заезки нагородят, много заезков, потом едут зимой… По Илге. Потом зимой едут, их смотрят, и чё добудут, сдавали. Ставили заезки. Ставят, перегораживают вот так реку, где… Как старые вот люди, да коне вот понимали, где надо делать заезки. Где не следует, там оне уж не делали. А летом заприметят место, вот, где модно сделать заезок, и там делают, чтоб зря – то не рыбачить не ходить… Приметы были. Вот если где налим идёт, у него грядка уже есть, мелконький камешок такой, и у него уже есть где – то грядка такая. Вот летом её запримечают, видимо, старики – то. Мы – то, я то не знала никого ето. А старики – то чё, знали ето. И там делали заезки и добывали рыбу. Мы добывали даже по центеру рыбы, налимох добывали, сдавали возили, в «Рыбкоп» принимали. Какие – то денежки же вроде шли же они немножечко хоть. И потом уж стали давать колхозу – то. А колхоз потом уж делили на трудодни, потому что все кучкой жили, вместе. (Заезок. Рыболовное сооружение в виде плотной изгороди из кольев и веток, которыми перегораживают реку, чтобы задержать ход рыбы, в середину сооружения вставляли ловушки для рыбы)
Воспоминания Геннадия Ильича Аксаментова (1929г.р.), жителя с. Тутура
На коз загонами раньше охотились. Три загонщика всегда было. А которые в загоне сидели. В засаде. Трое, четверо, пятеро, другой раз в засаде сидят, а трое гонят. Собак пустят, а сами потихоньки. Криком конечно.
Это голод заставлял. Вот нас трое, четверо человек по дороге идём по низу, километров четыре – пять уходим. А эти подымаются здесь где – нибудь в лощине по горе. Вот и садятся, чтоб друг друга не пристрелить. И вот оттудова идёшь: один повыше, другой пониже, третий ешшо выше – и трое так идут. Как те учуяли, что мы идём, и побежали, а те сидят в засаде. Вот и загон. Мимо бежим, он стрелят. Если промазал, значит, всё. А если нет – добудешь.
Мы как – то с Ладосом ходили, он литовец, в Головновке жил. Здесь приезжали литовцы, их привозили, ссыльных. Вот с ём ходили. Он идёт в загон, а я сижу стреляю. Вот с нём и добывали. Всё равно одну – то с нём добудем. Я захожу сразу, а он здесь садится, я обхожу и иду. Где – то шебаркну, где – то стукну, где – то шум.Далёко слышно, оно же утром далёко слышно, на зорьке –то. Щёлк или там удары, и всё, и оне побежали, козы – то. (Загон. Способ добычи лёгких животных)
История храмов
Воспоминания Галины Константиновны Наумовой (1932г.р.) жительницы с. Чикан
«… Здесь церковь была. Кончили её. А потом остатки-то сгорели летом. Дотла. Пыхнула! Изнутри горела. А потом пламя-то увидели: уже в окно вылезло, и сгорела. Иконы были. Повычерпывали. В ей потом клуб сделали. Старики-то туда не ходили. Мы -то бегали. Ну, оне. А аспид один иконы начал выбрасывать, топтать их, ломать! И у него потом рука начала сохнуть. Мама-то говорела (ну, я видела, Вениамина - то она была повреждена, рука - то)
- Бог-то наказал его за церковь, за иконы.
Вениамин Ефимович он, Рудых. У него потом всех, семья-то больша была, но все выродилися. Кто умер своей смертью, кто как, кто утонул, кого убили. Род - то у него засох, их никого нету, крови ихной нету на земле…» (АСПИД. Ругательное выражение: богоотступник, богохульник)
Воспоминания Иннокентия Петровича Стрелова (1926 г.р.) жителя с. Тутура.
Я медведя добывал, ранил его. А он ушёл. А назавтра я пошёл. Медведица была. Медвежонка одного- то до этого убил, а второго – на дерево залез. Назавтра уже. Он её следом пошёл. И этого убил. А товаришш у меня, этот, Чеин Алексей, царство ему небесное:
- Ты,- гыт, - сам себя стравишь и меня стравишь.
Я говорю: - Как?
- А медведица, может, вот рядом.
Я говорю: - Зачем тебе ходить, если ты боисся? Вот. Иди уж напрямую. Пан дак пан, пропал – пропал.
Ну и он больше мне ничего не сказал. Мы повернулись и ушли домой. Вот из лесу. Назавтрв я товаришша беру. Вот. Ну и этим следом мы опять пошли. Там вверьху, в Ботах, ключи. Вот. До ключей – то доходим. Она ранена была и в ключах – то, видно легла, раной – то. Как нас увидала – ну и на прыжки и ушла. Ну, мы больше, мы не видали её.
Я добыл сколь, медведей? Девять.
…Опасно – одно, а вторая – то, что до тех пор умотасся, что едва ноги переставляешь. К зимовью. А… а я охотился – сто километров от…от дома от своёго. Это в вершине Басьмы. Здесь вот через хребёт Тилик. А потом Басьма впадает. И вот по Басьме идёшь, а Басьма, она разделяется на три, как говорится, раздела. Правая, Средняя и Левая. Ну, вот я ходил по средней. Добывал и соболя и белку. А за медведем я сильно и не старался.
Воспоминания Николая Ильича Пуляевского (1927г.р.) жителя с. Петрово.
Вот в Петровой церковь была. Оне ходили, моя баушка Анисья Макаровна ходила с Заплёскиной, молилась в Петрово. Это Софья, председатель сельсовета, она воробьёвская, и вот распорядилася, она же коммунистка была, бессовестница, туды – сюды, и вот эту церкву – то разбомбили. Сняли крест – то, аж туды, в землю крепко. Разбомбили её. И чё, оне потом собрать – то куды – то в Жигалово хотели, а собрать – то не смогли, и вот так. Она сделана из таких вот чурбанчиков. Эта церков бравая, говорят, в округе самая бравая была. По речке её сплавляли в Жигалову. Жигалово –то построился из деревень. Со Знаменки много привезли, потом ешшо оттудова, с Заплёскиной. По речке сплавляли – то, а там уж не собрали. Ну, растеряли её.
А Софья чё? Потом умерла, да и всё. Она активистка была. Но их же в то время, знаешь, их много было активистов, но…
В округе, говорят, церковь была самая красивая. Там дважды строилась. Одна сгорела, тут построили другую, ивот там написано, что за ненадобностью вроде её закрыли. Пришлось разбомбить. А чё бы стояло бы? (Бессовестница. Человек без совести)
Воспоминания Евдокии Дмитриевны Кряжевой (1922г.р.) жительницы с. Тимошино.
Раньше же народ шибко боголюбный был. Вот у нас баушка Анна Ивановна, вот она родила всех восемнадцать, а живых восемь осталось. Вот не было детей, рожаются и умирают. Батюшка ей сказал: - Сходи с ребёнком с младшим на Троицу в Ангу, - вот тут вот была церков,- Вот на эту, отстой вечернюю с ребёнком и всё.
И вот она с Кундулуна пешком шла. Жара! С ребёнком на руках, пешком. Но до Верхоленска, считай, дошла, от Верхоленска до Качуга шла, потом до Качуга до Анги этого ребёнка всё несла. Жара! Вот пришла, вот здесь вот церков – то Троицкая в Анге. И она отстояла всю службу и обратно. И вот после этого у ей вот родился Иван, родился Александр. Их всего было восемь человек живых.
( Боголюбный. Искренне и глубоко верующий в бога)
История сельского хозяйства
Воспоминания Натальи Степановны Томшиной(1900г.р.) жительницы с. Коношаново.
«…Это ведь теперь пашни усыхают, тошшают. А раньше-то землю берегли. Своё ведь было. В обиходе содярживали. Она тода и не забижала: урожаи хорошо давала. Но работы много влаживали в землю. Хлёстко работали. По десять - пятнадцать раз её обборонуешь токо, кожилишься. А пашешь? Плуги ломаются. Ах ти, мнеченьки!
В старопрежние времена хлеб-то отпевали. Сеяли, крестом осеняя. По полям ходили, пашни обпевали. На степ молились, чтоб урожай был. В Пасху пели, ходили по дворам. Хлеба нагребут, отпоют, а потом токо сеяли. Зайдут в кажный дом. Хозяин ставит хлеб, который у иконки-то стоял, и зерна, каки сеют, булку с крестом. Нижну булку себе берет поп, остальну-то хозяин, кода едет сеять, ест. А нижну булку поп берет с собой или там дьячок, ну, кто подсебентивают-то ему. Отпели хлебец-то перед посевной. Токо потом сеяли. Порядок был кругом. И головни не было. А головня - зерно разомнешь, а там быдто сажа. А щас-то хлеб - то - головня одна. А порядка нету, потому так. А раньше кулич зарывали, чтоб головни не было. Зарывали в зерно посевно. Кулич-то у иконки постоитосвятится,и в зерно его. Порядок был.
А жать пойдешь, колоски-то с рук не падали. Не дай Бог упашшим-то быть. Ето щас неработени влёготку живут. А раньше-то как? Жнешь. Ах ти, мнеченьки! Жнешь, а за нам старичок с метрой идет. Мерил. Где колосок увидит на одном метре, замерит, он тебе трудодень не зачислит. Мы пять копеек зарабливали. Жнешь. Снопы ставишь на постатях, а когда ён придет, не знали. И бегашь, где колосок бы не потеряла, волоть. А щас чё? Ленточка не скошена остается, её не докашивают, а запаховают. Грех! Ой, грех! Дисциплину-то всю потеряли. Комбайн пройдет, половина на земле остается, под снегом. А мы ить день и ночь под работой ходили. Чуть отсветывать начнет, мы уже на пашне. Прибежишь домой, чё-нидь хватанёшь, обзобашь и опеть бежишь. Или сочни наделашь – и на пашню. А аржаной-то хлеб все ночам жали, в потёмочках. Месяц взойдет, светло - о, старшой: - Но, дехки, жать!
Мы под его глазом, знашь, как береста на угольях,- боялись! Шибко боялись. Ето щас, ах ти, мнеченьки, оторви да брось, никаку холеру не боятся. Созовёт нас. Мы идем, да ешшо песням займовамся. И на пашенке поём. Весело работали. Но крепко. А целик кода подымашь – в нитку утянешься. Тятя с мамой, когда живы были, пойдут:
-Дехки, пойдёмте залог драть!
А у нас луговой, степной пашни - то не было. Всё подлесна. А залог? Вот такой ельничек растёт, сосна вот така, березка, её обсекам. Мотыга у нас, кайла. По чертежам чистим. Подкапывам коренья, рукам вытягивам. Всё рукам. Камни таскали на межу. Ети коренья на пашню носили, пеньки кверху. Оне подсохнут, в лето высохнут, а потом сжигали. А сохой-то уж пахали. Где сук заденет, топор у тебя в руках, коренья эти обсекашь, чтоб соха не задевала. Залог вычистишь, а потом перелог поднимашь, поперек залогу пашешь.
Урожай-то коренья любит, землю из-под корней, особо из-под берёзы. Перевернёшь её дерном вниз, навоз ешшо подбросишь, заназьмишь, земля-то подпарится и много родит. Потом на отдых её спровадишь, под пар отдашь, простой дашь. Другую полоску в работу втянешь. Если каждый год пользовать одну полосу, так она истощает и родить ничего не будет. Потому земельки-то и чередовали. И жили хорошо, не скудались: одна рука в меду, другая в патоке.
… И жись кака-то скучна пошла. Друг ко дружке мало кто ходит. А ране уж к старости весело жили. И в войну. Нужда нуждой, но собирались. Капусту, картошку, чё - нидь, брюкву сваришь, свеклу ли. Посидим, картошку, чё - нидь поедим. Напоёмся, напляшемся. А щас всё есть, но душа не горит, не поёт, не пляшет. Раньше вечером друг ко дружке ходили, собирались:
- Седни ты иди ко мне посидеть с работой.
А я без работы приду. Ей помогаю прясти ли, шиньгать, вязать. Отвечеруешь у ей, а другой раз уж ко мне придут помогать. Человек пять - шесть собирутся, и чаю напьемся, и работу всю переделашь, и душу облегчишь. А ране на подёнщину мы ходили и там пели. Гуртом ходили. Приходит старик там, кто ли, просит отца: - Отпусти дочь пожать.
Ну, тятя: - Пускай, иди, пособи.
В другой дом, третий. И насобират на две телеги деук, всю холостёжь. Вот поедем жать. Пару коней запрягут оне, мужики, едем. Ямшшик:
- Ну, дехки, пойте песни, а то шагом пойдем.
Мы запоем. Ах ти, мнеченьки! Пристяжка голову на отлёт, ямшшик токо оввожать успеват. Как перестали петь, ён шагом. Мы без простоя и пели, токо телега под нам ходуном ходила.
И жали. И в колхозе потом жали. А по семьдесят копеек зарабливали в медяшках. Одне мяди, пятаки. Вот така стопочка. В гумажке завёрнута. Дак мы домой, ах ти, мнеченьки, домой бежим по метре шаг, что мы заробили на кохту, на плате. А в Покров черны юбки в складку сошьем, белы кохты в горошек, отвальны вороття. В Покров одеёшь и в бюро, потома - ка ить бюро было, где собиралися, придём. А робяты наденут розовы рубахи сатиновы, пуговицы перламутровы пришьют сюда и на вороття - то пуговицы посодют. И напляшемся, и напоёмся. Таперича - то старинны праздники мало отбывают. Раньше – то всё друга жись была… К чичасной жизни рази приверстать? Наработасся, устанешь в плаху, язык выслупишь. Но к вечеру ничё, одыбашь. На вечёрку бежишь (раньше - то народ в мирьбе жил). Или старикам займовасся, за заплот зацепишься, на лавочку ли присядешь, потокуешь с имям заодня. Я с детства старикох любила. Язык у их чудненькай… Любила за имям ухаживать, услужить кода. Они люди -то сызвешные, изжиты, жалостливы… пожалеют: - Чё же? Ты без матери.
Щас - то без их неродно. И жись кака-то скучка пошла. Народ какой - то всё ненастной… Друг ко дружке редко кто ходит щас. Ко мне кода Любава зайдёт, а то всё одна курюся. И смерть - то меня не берёт. Никто - то меня не украдет. Кто ба хоть на игрушки украу…» (Ах, ти мнеченьки – восклицание, выражающее удивление, сожаление, порицание, боль, испуг и др. чувства)
Воспоминания Надежды Павловны Машуковой (1921г.р.),
жительницы д. Захарово
И молотить. Под осень – то уж жать начнут, молотить. Молотилка была конная. Шесть лошадей запрягалося. И вот молотили на молотилке. Снопы развязыват, там стоит, режет серпом их и мне подталкыват, а я там трясу барабан. И до того дотрясла – одной руку оторвали. Она нямая была, глухонямая, ну, она чё, с бабушкой жила, матери – то у ей не было. А я у барабана стояла. Вот когда домолачивам последнюю – то солому у барабана – то, я – то со своей стороны стала, бросаю. А глухонямая – то, она же барабанщица, она стояла тут, от барабана отбрасывала солому, а потом видит, что тут навалилось, она схватила эту солому – то с колосом ешшо и бросила в барабан – то, и рукой ткнула. И шесть лошадей остановилося. Вот так ей руку – то всю, весь куфайку порвало, и всю это кожу, все пальцы оторвало. Я чуть с ума не сошла! Думаю: «Ну, наверно, меня посадят за её, или я с ума сойду». Ой - ой! А она жива. Наказание! У ей кров идёт, она рявёт. Страшно! Ой! Думаю: «Это чё?» На паре лошадей в Жигалово увезли её в больницу, отняли потом, отрезали - то от локтя – то маленько, пониже локтя отрезали. Она не взамужем, одна. Глухонямая, кто её возьмёт? А дак счас уж живой, наверно нету: они отсэль уехали. (Барабанщица. Женщина, подающая снопы в барабан молотилки)
Воспоминания Капиталины Дмитриевны Кряжевой (1930г.р.), жительницы с. Тимошино.
Харламовские были, Поляковски поля, вот наши, Сверчински, Захаровские пашни, дедушки Варлама были пашни, Никифора Гаврилыча были пашни рядом. Ешшо там чё? Катимовски бугорчики были. Там всё белая земля, суглинка. У нас вот тут пашня, потом дедушки Варлама тута - ка пашня была, там дяди Степана была пашня, там Захаровска. Дополна были. Бутаковски были.
А чё потом? Разделали разделы. Колхоз стал, это всё сровняли. Мелки межи были, их все попахали и разборонили. И наша пашня, её разделали, шестнадцать гектар, ешшо там чьи – то были, вшо слили. Тут всё разделали, как от деревни, так во всё поле полосы сделали всё. Колхоз – то потом это всё, эти пеньки, где пеньки были, всё выкорчевали, всё гладко стало.
Я пошла работать – то в десять лет, в одиннадцать. Пахала, боронила, потом поля мерила, ходила с меркой. А поля –то сорок раз измеришь – чирков – то не хватало: одне чарки у дедушки починяются, други одяю, прихожу, опеть починяты надею, да опеть… Надо смерить у всех.
Сёдни смеришь, да и трудодни начислить, ведомость составить да и хлеба дать, посявну – то. Пихну ведомость – то в окошко, в столовой – то толкну ведомость – то, которы назавтра – то надо пахать ехать( в шесть часов едут завтрикать – то, в столовую-то), им хлеба надо…
А полоски все назывались. Вот это – Елань, здесь от были всё полоски – то, - Бор, на бору тут с одной стороны, там. В северу называлося место. На горе то пашут, придут плугами пашут ребятишки. Чистенько вспашут – на землю – то любо посмотреть! Курень. Наверьху – то всё приходила туда к ребятам – то. Смеряю поля – то, обратно пойдем, оне, тот рявёт: На моёго коня садись! Залажу на коня – поехали! (Белая земля. Подзолистая и суглинистая почва)
Воспоминания Надежды Павловны Машуковой (1931г.р.) жительницы д. Захарово.
Бородку завивали. Это кода отжинаются, уже последнее дожинают, кода всё выжнут, оставляют маленький снопик, его раздёргают и ставят его. Вот это отжинки. И эту бородку завивали. Вот это бородкой называлось. Маленькой завяжешь снопик – вот это бородка. Главно ставят в серёдку вот этот снопик, а по – бокам – то останется, где не выжнут, маленько оставят, кружок, а потом эту солому – то так завивают, завивают вокруг этого снопика – то. Вот это бородка. (Бородка. Борода)
Воспоминания Анны Елиферовны Рудых (1930г.р.), жительницы Жигалово.
Я на быке пахала да боронила, а потом мне конев дали. Привезли от бурятох и монголох их. Дали мне боронить, этих лошадей. А чё? Голод! Кормить нечем, ничё. Старую солому аржану вот так вот резали, серп возьмут вот так вот, и резали вот так, и заварки делали, лошадей кормили. Всё было едомо. А эта монголка сядет у меня это, бурятка сядет на задницу, как собака, и сидит. А Иннокентий подбежал и говорит: - Чё не боронешь?
А я говорю: - А я кого набороню? Вы видите, чё лошади – то делают? Одна на жопе сидит, другой лежит, - говорю.
- А ты чё делашь?
-А я хожу солому рву да имям подтасковаю, кормлю.
Тяжело было. Голубику с Бутыриной возили сюда в Жигалово на двых лошадях. Нас много, человека четыре, кода и три едут, зерно, были кули, таскали. Галя была, у их постояло было наше. Заезжали к имям. Приедешь, до Бутыриной, до Каменки доедешь, там выпрягашь и кормишь, ночь ночуешь, назавтре утром опеть запрягашь и до Жигаловой. Тоже впотьмах приезжали. (Едомый. Годный в пищу)
Воспоминания Александры Георгиевны Коношановой (1930г.р.), жительницы с. Коношаново.
Раньше все с мала до велика на поле были. Все, все! Уже война – то была, мы уже работали. Сколь мне было? Но где – нибудь десять, одиннадцать. Двенадцать – то – уже вовсю работник. На быках, на коровах пахала. Лошадей один год, не подымались лошади, не было сена, лошадей подымали. На быках возили, боронили на коровах.
Как запрягали? Ермо такое, деревяшечки такие, как хомут оденешь и ведёшь. Идёшь взади с вожжам, а быка – то впереди ведёшь. Узду оденут и ведёшь его.
Когда вдвоём были. Один ведёт быков, там на корове ли, а один – то взаде идёт, борону – то её же надо на повороте когда, подтащить. А так её не подтащи, она может опрокинуться. А сеяли – то вручную старики. Сюда такой турсук. Вот сюда насыплют, идёт, зерно кидат. А вот лошадь идёт, заборанивает. (Ермо. Деревянный хомут для упряжки крупного рогатого скота)
Воспоминания Варвары Иннокентьевны Рыковой (1923г.р.), жительницы с. Дальняя Закора
А старики завеяны они обсекали ходили. А завеяна, знаете, это узкое поле завеяно. Они ветки обрубали. У нас Камень, а я везде по полям – то ездила, чё, двадцать пять лет. А там – то такое узенькое поле и округом завеяны, в серёдке – то зерно такое, высокое, а где завеяны - совсем низеньки: там же тень, завевает. Серёдка – высокий хлеб, а края совсем низкие: не рождается. Ну, потом поля распахивали большие, а завеяны эти запускались, а взамен их распахивались те, которые… Но зерно – то не хочется никому в землю бросать попусту, а распашут, где солнце обогреват со всех сторон. А обычно делали на солнце – печных хребтах. Ну, не на северной стороне, потому что оне же ведь знают: сельповская пашня, тоже завеянное кругом, тоже от леса метра три… совсем плохо хлеб растёт по метру, по три, потому что тень, тень, тень. Они кругом завеянные. А тени же с северной стороны. Он, если лес большой, он со всех сторон может. Завеяны – это места, где всё затеняется лесом. Старики берегли, ходили межу обсекали, обкашивали межи все, чтоб сорняк не попал на поле. Мы обкашивали межи все, чтоб сорняк не попал на поле, мы обкашивали. (Завеяна. Затененное место на пашне, у опушки леса, обычно неурожайное)
Географические названия района
Воспоминания Михаила Борисовича Винокурова (1930г.р.) жителя с. Лукиново.
«…Вот в Абакумовской паде пугало. Там падь широка, на Ильде… А там мельница стояла, в Абакумовкой паде же. Раньше-то ее Абакум держал. Дедушка Замащиков. Нарекали-то по именам раньше-то. Фамилии то одне были - Замащиковы. И вот эта мельница пугала. То свадьба приедет, то ешшо че-нидь. Человек спит, слышит: песни поют, колокольцы брякают, и подъезжают:
- Тпру-у!- к зимовью вот к этому.
Николай Максимыч на Бога заругался, покойничек. Он молол - то. Слышит, колокольцы брякают. Думаю, говорит, счас подъедут, зайдут. Подъезжают. Точно: кони фыркают, слышно. А там зимой это скобы. Он привязыват. Ну, счас зайдут. Я жду, говорит. Нету, нету, нету. Вышел из зимовья, никого нету. И в ночь, однако, раз или два вот так. А потом через несколько дней опеть вот так же. Но, а потом вот кто? Егор Тимофеич там. А-а-а, нет! Егора-то тоже пугало. А дедку Перфила, тот:
-Я, - говорит, - сколь перемолол, никого никогда не бывало.
Чё такое? Видимо, ешшо как кому. Вот. На Бога нельзя ругаться, нельзя…Грех!...
(Абакумовская падь. Название местности вдолине р. Ильда (приток р. Илги, впадающей в Лену), на территории нашего района)
Воспоминания Рудых Анны Константиновны (1926 г.р.) жительницы д. Игжиновка.
«… На лесной тропинке нельзя строить зимовье. И ночевать нельзя. Вот это же было. Абросимска ночуйка-то, там же было, на Илге, в тайге заночевали, говорит, мужики, ну, охотники. Недалёко уж было от дяревни-то, километрох, может двадцать было. Но заночевали в этой Абросимской ночуйке, её боялиша, она почти что на дороге стоит. Раньше-то, может, не было этой дороги, потом уж. Просто натроплено. И говорит, среди ночи…несется, говорит, тройка вот под вид, говорит цыганской… Чертова свадьба. Еле-еле, гыт, с дороги успели в сторону, грит. По костру как проехали, весь разметали. И среди ночи потом домой утрепали. Вот.
Вот такое вот рассказывали, что ни в коем разе не ночуйте на тропинках и дорогах лесных, на заброшенных тропах. Да! Потому что ночью по ним черти ездят, свадьбу играют…» (Абросимская ночуйка. Название зимовья на р. Илга)
Воспоминания Зарубиной Анны Михайловны жительницы (1930г.р.) с. Лукиново.
«… Это было на Илге же, пока его не сожгли, это зимовье. Оно на Абросимском. Этот пастух Пимон Антоныч. Знашь? Корох там пас. Тама-ка поскотинаи опечки такие.
Сейчас заросли, наверно. Вот он колхозных корох туда гонял на ночь. Ну и один раз вот пригонят, говорит, наломал сучков, коровы ходят. А пастух же ложится, когда коровы лягут. А пока не стямнется, оне все ходят, жуют. Надо караулить. Ну, коровы улеглися, он улегся в зимовье, вот в этим вот в зимовье на Абросимском. Ну и взял эту каменичку, прутикох сухих наломал, затопил. И только вздремнул. А чё пастуху? Много-то ведь нельзя спать. А ночи-то коротки: только дреманул – отзареват уже. Лето же! Рано светат. Он думат: «Я счас вздремну» И только вздремнул – не вздремнул – в трубу стучит: - Пимон, уходи отсюдова!
Он мужик – то небоязливый был. Соскочил, спичку чиркнул, вышел, круг зимовья обошел: никого нету. «Но почудилося, наверно». Только лег, говорит, опеть так же. Но и потом чё он? Так и не уснул. Через день, на третий день опеть такая же история. Ведь не стали там спать-то И потом ешшо кто-то вот так же. Гламно, поименно называт – Пимон!
Ну и потом взяли эту зимовьюшку, она небольшая была там, запалили её, и чуди не стало этой…» (Абросимский. Название местности, расположенной в районе с. Знаменки)
Воспоминания Петра Ивановича Новопашина(1024г.р.) жителя с.Лукиново.
«… Алексей-то, брат - то, он в Аленкане промышлял. Там место зверисто. Хребет и падь така. Мы там всё охотимся. И зимовье там. Хорошее место. Он с сыном промышлял, с Анатолием. Он ешшо живой быу тогда. Они пошли следить медведя, он из берлога ушёл, след следом оне пошли. А потом наследили. Медведь-то берлог-то выкопал, а постель - то там ешшо не настлал. Но ляжал в берлоге, не заткнулся еще. Затычка рядом лежит. Ну и стал караулить. Полезет, я, гыт, стрелюю. А сыну сказал: - Иди, затычки наруби залом делать.
Поближе нету лесу крупного. Там скальник, в Аленкане. Лес-то подале. Ну, он ушёу, нарубиу сколь - то, подтаскал стяжки. А он потом побоялся, сыну - то не доверят устье заткнуть и стрелять. Молодой же он был.
Но и потом, значит, взяу в одну руку ружьё, а второй - то рукой давай стяжки затыкать. Раз, два, три стяжка заткнул, а медведь оттуль как, паря, выскочил! Всё! Он бросил стяжок и за ружьё. И хлесь его стрелиу. А он ( медведь), разворачиватся и сразу на него обратно. Ну и он в имки его и давай купержить, за спину поймау, укусиу его за боковину! А потом бросиу его и сразу на сына. А тому за мягко место, сыну Анатолию, поймау и все так вырвау, паря.
А потом чё? Бросиу его, побежау. Алексей, брат-то, опеть за ружье. Медведь ружье-то вышиб… А он (Алексей) ружье потом схватиу, зарядиу и вдогонку стрелиу. Но ушел.
Но, а таперь кого делать? Сын-то идти не может. Но он все - таки не остауся здесь. Он хотел, Алексей-то, оставить его да идти по коня домой. Оне лопоть-то, тельно белье
сняли да завязали. Ну, а потом пять километрох осталось до дому-то, он говорит: - Ты останься,- огнишше запалиу да всё.
- А я,- говорит, - схожу по коня да за тобой приеду.
Но вот. А он всё рамно у костра не сидеу. Пошел все рамно за нём потихоньки. Насколь он не дошёу, Алексей - то встретиу потом. За Ярком было уж. Бояуся остаться - то, наверное. Ну, дак потом чё? В больницу его… но и там залячили…» (Аленкан. Название местности)
Воспоминания Алексея Николаевича Карех 1942г.р.) жителя с. Дальняя-Закора.
«… Отец мой добыл глухаря, по Аленканской паде ходил, туда, на Тилике, а в желудке вот такой самородочек нашёл; в Жигалово в скупку увез, сдал его. На эти деньги купил сепаратор и ружьё. Из - за этого сепаратора его и раскулачили. Говорит, приехали, все описали. Отец говорит, даже моего кобеля на цепочке в сельсовет увели. Я, говорит, ночью пришёл и отвязал его.
А отец его, дед мой, он в тайге был в то время, приехал, смотрит, ну, такое дело…всё, что осталось, говорит, загрузил на телегу и уехал с семьей на Тилик. Вот они на Усть-Илисово жили два года, скрывались. Говорит, мясо, рыбу там наловит, выйдет в деревню, поменяет на муку, на продукты и обратно туда. Вот они жили там крадче всей семьей. Их никто не продал. Народ - то был раньше хороший.
… Ходили там, на Чёрной, да добывали глухарей. Там жилы золоты. От Тыпты в тайгу ходили. Там Аленканская падь, это место называется Каторгой. Там алмазы добывали, там такой котлован выкопали, ну, может, шестьсот метров вниз, и то поглядишь, там такие сосны, и вниз на конус выкопан. Видимо, керберлитова трубка была. Ну, это было до революции. Родословная наша длинна… У моего деда фотокарточка есть такая, картонная фотокарточка, шестнадцатый год там, он там хорошо одет, сфотографирован, написано на обороте: «На память Зинаиде Яковлевне Карех»…»
( Аленканская падь. Название местности)
Воспоминания Галины Константиновны Наумовой (1932г.р.) жительницы с. Чикан.
«…Дождя не было когда, иконы новили. У нас там Ананьев ручей был, дак в ём новили. И мы ходим, вот эту Кузьму – Демьяна (икону) берем, купам в речке. Выкупам, а потом на берег её поставим и камням придавим, чтоб не упала. И свечечки затеплим. Она стоит. Мы помолимся, сами искупаемся. И дождь был. Дождянку (траву) рвали. Икону вымоем этой дождянкой, замочим её (икону) в речку, с берега, затопим, камнями придавим. Помыл (икону) маленько в речке, ликом - то вниз окунули, да и всё.
На берегу чай варим, помолимся, все баушки соберемся туда. И дождянку замочим… Помолимся. Иконка у нас у дерева стоит на подставочке, на полотенце. Мы-то когда несём её, полотенце на неё наденем, так её нельзя нести. Мы даже летом вот такую, подставочка сделанная из дошшечки, за иконой у меня стоит, так вот сделают, дед просверлил. Так поставим к дереву, досточку положим, полотенце одетое. И вот эту свечку затеплим, помолимся, потом чай пьем. Скоко нас придет - стоко свечей поставим. Каждый поставит на дошшечке…» (Ананьев ручей. Название реки, протекающей по территории Катанского района)
Воспоминания Марии Георгиевны Пешковой (1925 г.р.), жительницы д. Бачай.
Ну, там есть Шамашик, там Бабушкин ручей был. А вот здесь – то вот этот ручей –то Бочай. Там вот хрепты эти, там ягоды хороши. Вот тут Подзуевска, а тут по Бочаю – Зеленишино, Жерновка. Там и поля рядом. Тут Подзуевска, тута-ка Савкино. А там недалёко Байдоново. Там на Сумейке, на Шамашке. Это всё поля… У кустох тама-ка, в Узком месте, всё по Бабушкиному руччу – то мама наша и видела полдневных – то. Ну, они как люди, но плохи, приносят болезни, припадки. Вот у ней начнет ребенок и помрёт. Вот от этого мужика родила, от второго… У нас отца на войне убило, а мать за другого выходила. И дети не заживалися. Вот эти полдневные – то и кончали… (Бабушкин ручей. Название реки, протекающей по территории Жигаловского района)
Воспоминания Арины Кононовны Чертовских (1917г. р.) жительницы д. Балыхта
Вот че творилось! Раскулачили и сослали. У нас, в Балыхте, много кулачили… Один вернулся домой. Все березу тряс. Говорит, нас привезли, бросили под сосну, под снег. Тайга! Мы там, гыт, огнишша запалили, землянки рыли. А весной – то стало, гыт, таять все, ой, говорит издевалися! Говорит, сгибают две березы, привязывают к ноге к кажной и потом вот так его надвое – ребенка – раздирают. Матеря, отцы здесь стоят и глядят. Вот чё было! Вот согнут, за ноги привяжут две ноги – и распустят. Опустят березы – оне и разорвутся. Детей разрывали живых. Вот как издевалися!
А потом там болото недалёко было, в болото бросают прямо живьем ребенка. Вот такие звери были.
Семьи – то раньше больши были, невестки понедельно работали. Четыре невестки были, все балыхтински, все четыре снохи… Они вперемен жили. Но кто там стряпает, кто за скотом, кто молотить. Мама у нас стряпала, мастерица была, она калачи заварные стряпала, и хлеб пекла хорошо, булки хорошие. И хворост у ней хороший был. Надо знать, скоко ичек набить, она умела. У ней хворост такой пышный был. Или вот свадьба ли чё ли, ее звали стряпать, готовить…
А другая невеска неумела ничё. Ни стряпать, ни варить. У ней булки - то, она вынесет из печки, она отдуется, корка – то, пустая булка. А свекор сидит за столом, она ложки хлёбальны наложила уже – хлебать суп (хлебали же из чашки все из одной). А он взял, да и в хлеб затолкал, эти ложки. Она смотрит: - Я же ложки ложила. А он смеётся: - Вот так, моя невестушка, надо поучиться тебе. Сырая она, корка одна…
И крадчё ели. Свекра боялися, свекровку. Пойдут, муку сеяли же, вдвоём сеят и там: - Рыбку давай поедим тут, пока никто не видит.
Не давала свекрохка. У ей там все стояло, на вышке. Масла наготовит, и всё там. И сё пропадало, всё заплеснет, но ись не давала имям.
…Ну, вот муку сеют, и там оне поедят маленько, украдут. А там, может, шшотана, рыба эта, взять – то нельзя её. Но всё рамно, гыт, там поедим, и всё, а больше и не глядим. А настряпают, ну, чай попьют, настряпают оладьи ли, пирожки каки, вот это и поедят вместе…
Как умерла свекровка, потом разделились, дома построили и разбрелись, как олени по тайге… (Балыхта. Балыхтинские. О жителях с. Балыхта)
Воспоминания Ксении Минеевны Аксаментовой (1907 г.р.), жительницы д. Пономарево.
Мно-о-о-гих кулачили здесь балахнински - то. А вот туда - ка были Ефимовские, жили в этим доме.
Серафимовские, рядом у нас тута-ка, тоже их раскулачили. Выгнали их. А Глазовский был, он заехал в эту избу, бедняк, а оне в ихню избу. А дедушка – то Констинтин жил на этой, у Романа Павловича на избе, на крыше спасался. Но как – то не посадили его… У нас всё, у меня дядя был, в Якутским потом жил, Николай Артемьевич, всё говорел:
- Меня бы…счас надо было кулачить, а не тогда, когда за самодельные штаны кулачили. Чё у меня было - то? Никого! А раскулачили!
Ну, сбежал, хоть его не посадили. А вот Фаинин отец, вот, отца посадили, восемнадцать лет не было. Иван Гаврилович – то. Шестеро детей было, их раскулачили. И вот она, эта бабушка, всяко – разно. Она всё смеялася.
-Какой – то, - говорит,- там отобрал, всё уж собрали, какие ешшо у нас зерькала снял и идет,- говорит,- в него так и смотрится.
А со стороны – то люди видят всё равно. Зерькало и то отобрали! А тут кто-то увёз у Лаврентия из них колоду. Колода, говорит во дворе стояла, ну, чё?
Иннокентий Лаврентьевич Толмачёв. Его раскулачили, оне уж жили это, всё собрали, всё это, утварь всяку – разну, вот это продукты да коров и всё. А Михайло – то, он потом председателем был. А сначала одним понятым каким-то всё, а потом председателем. А потом его с председательства – то убрали. Он уже в дорогу стал ходить, работать. (т. е. перевозили северный груз) (Балахнинские. О жителях д. Балахня)
Воспоминания Анны Тарасовны Бутаковой (1913г.р.), жительницы с. Воробьёво
Здесь всяки ходили, через Балахню – то, просили, исть просили. Баушка наша всегда давала. Кто бы ни попросил. Окошечко откроет, перекрестится и подаст в окошко в створчато.
А как- то наши мужики же, оне на охоту уехали, после Покрова дня все же на охоту, бабы одне на деревне да ребятишки. Мы с баушкой баню топили, уже скутали её, заходит старичок, беглый, грязный весь, пооборванный, худой, а ноги-то все в кров разбиты, и вот так сял, а седой, сял коло бани, и видно, сил уж не было. А баушка – то говорит:
- Анна, сбегай в избу, направь ему узелочек.
Но чё? Сбегала в избу, чугунок картошек был, я ему картошку положила, творог наладила, рыба была, я рыбу положила, ельчикох, чай заварила, молока… Ешшо тятины стары ичишки нашла ему в ему в анбаре.
Мы и мыться – то не стали. А баня – то готова была. Он, видно, вымылся, заночевал там, на полке выспался, а утром ушёу. Утром – то пошли – а он уже утрепал. (Балахнинские. О жителях д. Балахня)
Воспоминания Тихона Ильича Аксаментова (1921 г.р.), жителя д. Кайдакан
Как оне? Правая Басьма, средняя Басьма и левая Басьма. А все оне сходятся, это называется сбега, на сбегах. Это от Берёзового хрепта все оне берутся… Вот все эти речки, три Басьмы, оне в одно место сбегаются. Все три в одно место, в эту, в Басьму, да. В однем месте оне сбегаются, в одно русло и впадают в Илгу. А далёко, это аж к Илиму. От Илима, вот хребёт - то Берёзовый идёт, вот этот, и подымесся на хребёт – то на спину, он длинный такой, тянется на север туды. И далёко это, ну, видать с хребта – то…
У меня брат мой двоюродный. Он так рассказывал. В тайгу пошёл один на Басьму, там у него зимовейка была. Они сиротам осталися трое. Тятя их подымал мой. И вот он в тайгу пошёл. Приехал. Балалайка там, зимовьё вот это, печечка – всё. Пельмени наморожены, всё там, ну, сколько там. Вот теперь я, говорит, это, на балалайке играю и слышу, гыт, в сенках:
-Во - ха-ха, во ха - ха, во – ха-ха! Играй! Играй!
И говорят: - Играй!
Я, говорит. Играю, играю. Ну, мне, гыт, уж пальцы больно, я, говорит, всё играю. А оне там пляшут. Я, говорит, играю – играю, а оне пляшут.
А потом, гыт, мне, гыт, жутко стало, я перестал. Ну и я, гыт, вышел: накого нету. Но, говорит, мне страшно, давай молитвы читать, и всё. И гыт:
-Приходи завтра на круг.
На круг… Он пошёл, он и белку, он и соболя убил, он чёт око надобывал! Он неделю пока был (люди месяцами живут, того не добывают), а потом приехал – то домой и говорят:
- Это Котька чё – то знат, Котька чё – то знат!
Вот ихный, мой брат, а ихный отец, а он ничё, сироты росли. Мать, оне маленьки, ему четыре года было, он маму мою мамой звал, четыре годика, где, откуда он будет. А мама моя вовсе, даже чирей не умела заговорить.
А «на круг» - это вроде поляна, там какая где, где охотются. Туда охотиться, видимо приглашали. (Басьма. Название реки, протекающей по территории Жигаловского района)
Воспоминания Иннокентия Петровича Стрелова (1926 г.р.) жителя с. Тутура.
Я медведя добывал, ранил его. А он ушёл. А назавтра я пошёл. Медведица была. Медвежонка одного- то до этого убил, а второго – на дерево залез. Назавтра уже. Он её следом пошёл. И этого убил. А товаришш у меня, этот, Чеин Алексей, царство ему небесное:
- Ты,- гыт, - сам себя стравишь и меня стравишь.
Я говорю: - Как?
- А медведица, может, вот рядом.
Я говорю: - зачем тебе ходить, если ты боисся? Вот. Иди уж напрямую. Пан дак пан, пропал дак пропал.
Ну и он больше мне ничего не сказал. Мы повернулись и ушли домой. Вот из лесу. Назавтрв я товаришша беру. Вот. Ну и этим следом мы опять пошли. Там вверьху, в Ботах, ключи. Вот. До ключей – то доходим. Она ранена была и в ключах – то, видно легла, раной – то. Как нас увидала – ну и на прыжки и ушла. Ну, мы больше, мы не видали её.
Я добыл сколь, медведей? Девять.
…Опасно – одно, а вторая – то, что до тех пор умотасся, что едва ноги переставляешь. К зимовью. А… а я охотился – сто километров от…от дома от своёго. Это в вершине Басьмы. Здесь вот через хребёт Тилик. А потом Басьма впадает. И вот по Басьме идёшь, а Басьма, она разделяется на три, как говорится, раздела. Правая, Средняя и Левая. Ну, вот я ходил по средней. Добывал и соболя и белку. А за медведем я сильно и не старался.
Воспоминания Георгия Петровича Жукова (1928г.р.) жителя д. Константиновка.
Я с детства ходил охотиуся. Ружья, собаки. Белку добудешь, горнока, а который раз придешь совсем пусто. Сначала возле дома всё ходиу, а потом уже километров за восемьдесят на Березовый хребёт, вот туда. А ходил большинство всё на Тилик, речка Тилик, она в Илгу впадат тут, примерно тридцать или сорок километров пониже. Там богатая тайга.
Берёзовый хребет километров сто, наверно, длиной. Я слышал от стариков, он самый длинный хребёт, он делит Ангару и Лену, речки, - водораздельный хребёт. С Березового хрепта туда – то вода бежит, в Ангару – то, а с другого склона бежит Лена – река.
Дак мы друг - ко дружке ходим в гости, когда на охоте – то: ангарские мужики к нам приходят, мы к ним. Вот сейчас ребяты ходят. Вот у меня там три зимовья, на Тилике в Берёзовом хрепту, дак ангарские мужики сюды приходят ночевать который раз, с Ангары – то. И мы который раз к имям приходим, ленские, с Лены. У нас растояние, может километр через Берёзовый хребет. Мне приходилось ночевать. Оне у меня ночевали… (Березовый хребёт. Горный массив между Ангарой и Леной)
Воспоминания Кондрата Михайловича Чертовских (1915 г.) жителя с. Чикан.
У нас орешник по Берее там, речка Берея, но далёко. Мы туда всё ездили. Ну, вот ходишь на пару: один киём бьёт, ну, попеременке, а второй шишку собират. Зацепил деревину, к другой подходишь. Который раз хорошо идёт, хорошо валится – есть. Мы - то не брали большие – то кедры, но раньше, говорят, что брали.
Двухручный кий был на двух шестах. А потом мяли их на тёрке, тёрли и отбрасывали. Полотно повесят, и метрох на пять – на семь вот так вот отойдёшь, и так настелют полотно тоже, чтоб орех – то валился. А кожура – то, мы не бросали, спали на ём.
Самый хороший орех – самый далёкий. Вот по Берее – речке. А тут ближе – хуже, который возле тебя, дак тот – пустые оне.
И на паданку ходили тоже собирали, на Берею же ходили, туда. Ну, летом уж. Пары на первый раз вспашешь, по - черну пары – и на паданку. И вясной ходили. Дак туда на Берею – то ходили мы, на паданку. Ешшо местам – то снег лежал. На Берею – то, на берега навалилося… Лёд – то, больше метра накипи, идёшь.
Мы артельно ходили. Артелью сыпали. Там у нас на Берее – то, засеки стояли под орех - ссыпки. Два засека было. Один под чистый орех, другой под шишку. Чатыре на чатыре. Из брёвен. А высотой оне небольшие, метра на полтора. Закрывали желобником: деревину расколят желобами и закрывают. Шишку хранили там и орехи, чистые орехи. А потом вывозили зимой, после охоты. На конях увозили. Шишкой - то мало, чистым орехом – то всё больше. (Берея. Название реки)
Воспоминания Павла Иннокентьевича Рудых (1930г.р.) жителя с. Рудовка
В кедрач мы уходили в сентябре, двадцать пятого сентября. Как рожь поспеет, и орех готовый. Он же озимой тоже. Как рожь озимая, так и орех. Котомку на плечи – и впяред. Отсюда двадцать пять километров по речке Берее. Там много ореха. Били до самого снега. А потом уж паданка пойдёт. Табором ходили, били, потом делят готовое. Туда тропа, на конях ездили. И вывозили вьючно. Старики – то жили там до снегу, пока оне измолотят этот орех.
Тёрли вальком и тёркой. Рубцы наделашь, вот у меня на плашшине прямо. Хлоп её, расёр, да и всё. Пять кулей за два часа. Я один. Куль чистого. Пять кулей шишек – куль чистого выходит. По Берее – то, там богатый орешник. Там стойбо до сих пор стоит. Там одному – то никак, надо вдвоём. Один собират, один колотит. Или вдвоём собирать, если шишки много.
И артелью ездили вот. По тринадцать было. Там разделяются по два человека, и каждый бьёт, один таскат; один бьёт, один таскат. Целы кучи натаскаешь, а потом откидывашь. Натягивашь брезент – и лопатой! Орех лятит, а мякина остаётся. Ну, решётная называют, если вот такого нету: ни машинки нету, откидывать не на чё – называют решётная. Ряшетом просеял, всё, в куль складывают, и всё. Орех решётный, он с мякиной. Потому что мелка мякина, она же вся проваливатся же с орехом. А вот эта шелуха крупная – её выкитывашь. Когда он с мякиной, это решётный. А кода уж откидный – там чистенький, это чистый орех. Откинешь весь и в ссыпку ссыпаешь. А потом делёж идет…(Берея)
Воспопинания Мавры Семёновны Замащиковой (1916г.р.) жительницы с. Бачай.
Раньше байдоновские всё ярушники стряпала, ярушники да мушники. Это когда ячмень мелят, сеят его, он же колючий, сеят. И вот на простокваше замешивают его, и вот так же квасят дрожжи, квасят, а потом на противни так кладут, поварёнкой, блюдцем ли, и вот сразу же в печку, а то они расплываются, ячменны мушники, а вкусны, исти –то можно было. И ковриги были аржаные опеть. Коврига эта была – вот такие булки тоже, русска печка больша же была. Квашня пудовая, не лучше. У нас вот большая семья, да работали – через день мама квашню стряпала вот такую. Двенадцат – пятнадцать калачиков состряпат за перво, это пшаницу если, а потом опеть десять – восемь булок, сколь войдёт. И вот тут их съедали, не покупали.
И тарочки так же. И я стряпаю. Булочку скаташь, да стаканом, стакан сверьху, эти вот так обрежу, на серёдочку, вот так помнёшь, положу, а потом вдвое – вот и булочка, тарочка. Вот коврига, тарочки, булочки. У нас вот тут эта была, байдоновская, приходит в магазин и говорит: - дайте шанег. Не булочек, а у нас шаньгам звали, щаньги – то. Пирожки, шаньги. (Байдоновские. О жителях села Байдоново)
Воспоминания Евдокии Александровны Винокуровой (1920г.р.) жительницы д. Кайдакан.
В орешник ходила. Война была. Мы с дедкой ходили. У нас дедка хороший был! Дроздов Петрован Елизарович. Ну, нас много там ходило – то. В дождь поедем!
Орешник назывался Болонник, это в Тимошиной. Хороший орешник был. Там зимовья были, два, однако. Много народу было. Мы поехали – дождь как раз! Подъехали: ну, вроде обыгало, ничё. Ну, мы с дедкой кого? Он же старенький был. А я кого? Увидела большой этот колот или кого, не знаю. Все убяжали: эти деляны свои тама-ка да всё это бить. А мы возле зимовья с нём. Он же длинный, шест – то, длинный колот. Он его поднял, я его поддела – дедка мой улятеу, я упала. Ой-ой-ой! Вот и стар и мал. Дедка промахнулся, его под штанину зацепило! Ну, мы чистых орех набили два куля.
Я таскала помаленьку. А там ещё надо их это, тереть, обрабатывать там надо, шишки – то эти. (Болонник. Название местности в районе)
Воспоминания Геннадия Ильича Аксаментова (1931г.р.) жителя с. Тутура.
Хлюпать боткой – ботаешь - ботаешь. Или хлюпашь, или ботаешь. Это по – нашему. Боткой идём, вот два, три, четыре сетки я взял, ельцовки, и пошёл вверх. Раз!- их поставил вот здесь прямо, токо сошёл поперёк – раз, раз! – заплыл метров десять, ботнул, об дно так похлюпал боткой, стукнул, и всё, и приплывашь. Раз! – сразу первую выбирашь, попали. Опять выбрал, опять дальше. Откудова начал ботать, там ставишь, выше, выше, так идёшь боткой.
Я раз по Чикану ходил и ельцов за день три мешка наловил. Там Чикан – приток Тутуры, по Чикану ходил. У Тутуры много боковых речек, оне все рыбисты. Вот здесь сразу пойдёт, маленьки речки: там Чингилей – речка, она километров, наверное двадцать, Бурунга – так же, наверное, Чикан – это километров с то с лишним речка; Келора, Юкта,потом Бадер – это тоже в Тутуру впадает, Монка, а туда выше, не знаю, они все попадают в Тутуру, вот здесь. Рыба – то вся мимо Тутуры и по Лене, вверх по лене туда двести с лишним километров, вся она проходит мимо и вниз всплыват и вверх всплыват. Пожалуйста! Не надо никуда, дома лови – всегда накушаешься. ( Ботка. Бот. Бота. Ботало. Буркало)
Воспоминания Таисии Петровны Новопашиной (1930г.р.) жительницы с. Лукиново.
У нас там урочище было Бугульдей. Там же были поля, на Бугульдее, сеяли там хлеб, всё. Там заимка была, стояли зимовья, пашня была и сенокосы угодия там были.
Раньше мы туда всё на покос ездили. А на покос – то идёшь как на праздник! Наряжалися. Ситец купишь и сошьёшь платья цветные, кохты. Платочки. Уезжали в июле. У нас – то всегда в Петровку едем на покос. С двенадцатоого июля. Мы вот с Катей косили. Нашьём ситцевые кохты и платки красные. Едем. Чё?! Трава большая, кони идут. А баушки – то на нас:
- Как саранки! Саранки расцвели!
Косили. Носили юбочки, и кохточки, и платочки. Ой, придёшь на покос – то! Ой! Разноцветно всё! Все такие нарядно одетые. Поле зелёное, трава зелёная! Ой, одеты в чё – нибудь такое, больше красное одевали. Мы, девчонки, песни, идём поём. Рано уходили на работу, поздно кончали.
Потом вот эти копны стали таскать в зарод. Пошёл наперегонки, чтоб больше стаскать, чтоб больше было. А как же! Рысью, рысью бегали. И вот всё надо бежать, больше захватить, больше делать. Всё вот так у нас было. С самого детства нас так приучили. (Бугульдей. Название урочища в районе)
Воспоминания Григория Петровича Жучёва (1921г.р.) жителя д. Фомина.
У нас там урочишше было Бугульдей. У нас дед ездил туда зайцев добувал, там их было много. Оне вдвоём (Кирилл был, его по пятьдесят восьмой позже забрали), оне пятьсот штук добыли. А дед потом один шестьсот добыу. Пасти рубили. Дорога была, были пошевни. Они в пастях придавлены, не то что в петле, как попало, а там пирожком его к снегу прижмёт. Мама вот полны пошевни нагрузит, на лошади везёт. А дома наложат – наложат, а потом снимают их, оттаят. Растают, снимают и сдавали, и мясо принимали. (Бугульдей. Название урочища в районе)
Воспоминания Таисии Петровны Новопашиной (1925г.р.) жительницы с. Лукиново
Дунькин пуп коло Кочня… Но дак он был прямком, вот так был. Его бульдозером всё сравняли теперь, и назвали Дунькин пуп. Почему назвали? Но… Видишь, едешь, просто вот от так крутая горочка, и обраьтно, он крутой был, подъём – то, и узкий. И его сровняли этим, бульдозером. (Дунькин пуп. Название горки близ деревни Кочень)
Воспоминания Юрия Николаевича Шаманова (1938г.р.), жителя с. Коношаново.
Здесь вон было в Дядиной, студента медведь задавил, в Иркутск вертолётом вывезли. Давненько это было. Зимовьеё строили два брата.
Вот младший – гыт – пойду моху порву. Он ушел мох заготавливать, и в это время на него медведь напал. Тот брат – то давай кричать – нету. Пошёл с ружьём – то, его увидал, убил медведя, а брата – то нет, задавил. Пошёл в Дядину, позвонил, и вертолёт прилетел и… Да я видел его, в мешке везли. А забыл в каком году – то. (Дядина)
Воспоминания Марии Константиновны Рудых (1931г.р.), жительницы Жигалово.
Это когда было – то? На дядинского – то одного – то медведь напал? Прямо за огородом. Собаки залаяли за огородом, а он, по – видимому, там ходил. Ну, пошёл, один пошёл – то, ни соседей не созвал, никого. Один и пошёл, только через огород – то перелез, и медведь его сразу сшиб и ружжо – то отбросил. Но он беззубый был. Но он руку и ногу нарушил ему, и лицо, ухо и всё оторвал. Но он это, ешшо колода лежала, брявно там. Он за брявно – то как поймался, он его не мог… А у него это, ножик был, он ножик – то выташшил из ножны – то. И в пасть. Язык, и вот это спасло. А он с зубам он был, он бы ему руку – то перекусил.
Но, а потом он приполз когда домой – то, сказал, тут мужикам – то сказали, и они ружья схватили, побяжали с собаками. А ночь уже. Но и собаки – то нашли, и застрелили. А назавтра пришли утром – то оснимать – то, а зубов – то нету у него. Вот он и спасся из – за этого. (Дядино. Название населённого пункта)
Воспоминания Александра Петровича Бузикова (1920г.р.), жителя с. Усть – Илга
И случай такой рассказывал этот Костя, Рудых. Гыт, на Жаркове косил, ну и заехал, пригласил вот этого же Палеенкова:
- Помогите мне утром косить, а я вам грести потом помогу. Ну, так договорились вечером. Я, гыт утром там у себя встал да пошёл косить. И в трёх метрах выскочила медвежица. И прямо на меня так подняла лапы. Я, гыт, так заорал, без ума. Ну, что делать? Рёв токо, и всё. Я с перепуга три дня не разговаривал. Ну что делать? Рёв токо, и всё.
И те подходят мужики – то: - Мы,- гыт,- что за рёв? - гыт, - гудки. Пароходы уже не ходят давно. Неужели гудок такой?
Так орал, я, гыт, им пояснить ничё не могу, потому что не могу сказать: у меня голос осип. Надорвал. Ну, подошли когда, я давай маячить, где это вот получилось.
Пошли там смотреть, куда она ускочила – то. А с ней были два медвежонка, оказывается. Дак он перепугал этих медвежат – то, оне обосрались в ручейке. Они перепугались, а она тода, значит, кинулась тоже за ними, и ушли. Вот этим рёвом мы их отпугнули. (Жарков. Название сенокосного угодья возле с.Усть – Илга)
Воспоминания Евдокии Евлампьевны Жучевой (1912г.р.), жительницы с. Тимошино
Пара, запрягали, еще с обоих сторон пристяжки дадут, коренник. Коренник и пристяжки Тройка, если тяжелый груз. Вот лес вот этот, он из-за Корабля от с того возили – то. С Жарновки возили, в четыре часа станут и на Жарновку. (Жарновка. Название местности в окрестностях с. Тимошино)
Воспоминания Петра Ивановича Новопашина (1924г.р.) жителя с. Лукиново
Отец рассказывал. Поставит петли на рысей, у Заверяйки. Называется местность –то Заверяйка, там пашня и впритим лес. Вот он наставил петли, поставил и уехал. А был март месяц. Ну и чё?! Потом уж приехал… Ну, никак не мог, не удалось съездить, посмотреть. Неделю не мог выехать. Потом поехал петли смотреть. А там аж пять попало рысей: одна оторвалась, одну вороны съели, и три целых-то привёз. (Заверяйка)
Воспоминания Лидии Яковлевны Замащиковой (1955г.р.), жительницы с. Лукиново
Заверяйка – в Федотовой. Там и Онгон, Нитик там, Олентуй там. Жерновка здесь вот, в Лукиново. Кичей, но это на низу, в сторону Байдоново. Федотово – где люди все собирались, от эти гулянья – то были. Там мельница была, мельница ранешна, ручей бежал, и вот там все собирались (помню, я маленька была). Карбазна – это где карбаза делали, вот тут, повыше Лукиново.
Челочи – вот это три километра отсюда, от Лукиново. Ишеканск. Это в Федотово, там Медвежье место звали, медведей там добывали. Верея – это семь километров отсюда, между Федотовой и Лукиновой большое поле. Вот там недалёко и Заверянка, там хлеб снимали комбайнёры и делили между бригадам. Ключ там, Сухой, но это в сторону Байдоново, где зароды стоят, домишко там небольшой. Малкун – он же в сторону, там охотятся ездят. Чалгуш – вот тут за рекой, там тоже поля были. Счас, конечно, всё это, теперь люди – то попустились, полю-то. Люди ранешны всё убирали, камеяшочки подбирали, а счас просто скот ходит и всё лесом уросло. А Ялань… вот это только одно поле осталось, которым мы живём. (Заверяйка. Название местности близ д. Федотово)
Воспоминания Анатолия Николаевича Аксаментова (1930г.р.), жителя д. Якимовка
Да много там их, пашен – то, названня разны. Балалайка, Низова елань, Микиткина елань. Микита её раскорчёвывал. Бастрицка елань. Бастрицкий был, вруша он добрый грят… Пашня Черемша, Павловы, Солонцы, там и покос. Ну, на той стороне Конец луга, ручей там, Лотошна. Всё забросили там оне всё. Ой, пашни много! Сколь раскорчевывали от здесь, трудов сколь было?! Всё счас заброшено. В этом году маленько сеяли. Ребята там он подобрались, ну молоды ребята, механизаторы. (Микиткина елань. Название поля близ деревни Якимовка)
Воспоминание Марии Георгиевны Пешковой (1925г.р.), жительницы д. Бачай
Ну, там есть Шамашик, там Бабушкин ручей был. А здесь – то вот ручей – то Бачай. Там вот хребты эти, там ягоды хороши. Вот тут Подзуевска, а тут по Бачаю – Зеленишино, Жерновка. Там и поля рядом. Тут Подзуевска, тута – ка Савкино. А там недалёко Байдоново. Там на Сумейке, На Шамашке. Это всё поля. Здесь Стрелка, там хребёт ешшо. Стрелка. (Заживаться)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




 ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ